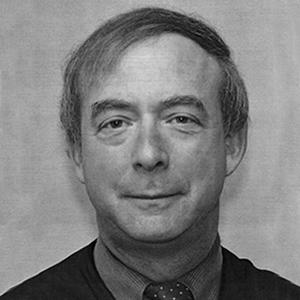Эксперты «АГ», проанализировав приведенные примеры и выводы Суда, отметили, что они могут быть полезны для адвокатского сообщества. Во-первых, как ориентир при разрешении вопроса о необходимости и целесообразности подачи жалобы в отношении судьи. Во-вторых, как отправная точка для формулирования критериев назначения различных мер дисциплинарного воздействия в отношении адвокатов.
Как ранее сообщала «АГ», 27 декабря Президиум ВС РФ утвердил Обзор судебной практики № 5 за 2017 г. Как уже сообщалось, Обзор содержит 60 правовых позиций Судебных коллегий ВС РФ по делам в различных отраслях права, разъяснения по ряду вопросов, возникающих в судебной практике, а также обзор практики международных правовых органов.
Среди прочего в документе содержатся и две позиции, сформулированные Дисциплинарной коллегией ВС РФ, рассмотревшей жалобы судей на решение о лишении их статуса по результатам рассмотрения дисциплинарных производств.
Рассмотрев одно дело, Дисциплинарная коллегия сформировала позицию, согласно которой неумышленные судебные ошибки ординарного характера не могут расцениваться как проявление недобросовестного отношения судьи к своим профессиональным обязанностям и служить основанием для применения к нему дисциплинарного взыскания.
А по итогам рассмотрения второго дела коллегия пришла к выводу о том, что недобросовестное отношение судьи к исполнению профессиональных обязанностей, грубое нарушение уголовного и уголовно-процессуального законодательства при рассмотрении дела привели к искажению фундаментальных принципов судопроизводства, нарушению прав и законных интересов граждан, умалению авторитета судебной власти.
Как отметил советник ФПА РФ Евгений Рубинштейн, совокупный анализ извлечений из судебных актов, приведенных в этой части Обзора, может пролить свет на сложный вопрос дисциплинарного производства – за какие процессуальные и материально-правовые ошибки судей при рассмотрении различных категорий дел может быть назначено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения статуса судьи.
«Сложность данного вопроса обусловлена отсутствием четких критериев определения – какие из указанных нарушений, как указал КС, “очевидно несовместимы с высоким званием судьи, явно противоречат социальному предназначению судебной власти, носителем которого является судья”. Конечно, приведенная позиция Конституционного Суда не может считаться конкретным критерием, а устанавливает лишь общие границы определения нарушений, за которые судья может быть досрочно лишен статуса», – пояснил адвокат, добавив, что анализ приведенных в Обзоре примеров из судебной практики позволяет наполнить этот критерий более четкими условиями.
В первом примере судья неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела, и допустил ошибку при применении норм материального права. Верховный Суд РФ, проанализировав содержание этой ошибки, пришел к выводу, что она является ординарной при рассмотрении такого рода дел, а именно исков о признании права собственности, и посчитал, что за эту ошибку лишение статуса судьи является явно несоразмерным нарушению. Суд сформировал тезис: «неумышленные судебные ошибки ординарного характера не могут расцениваться как проявление недобросовестного отношения судьи к своим профессиональным обязанностям и служить основанием для применения к нему дисциплинарного взыскания».
«Анализ этого важного тезиса позволяет конкретизировать критерий “ошибки, которая очевидно несовместима с высоким званием судьи”: такая ошибка должна быть (а) умышленной, то есть когда судья знает, что неправильно применяет норму права, и, несмотря на это, осознанно идет на такое применение, и (б) нетипичной (нехарактерной, выбивающейся из числа других ошибок), которые возникают при рассмотрении определенной категории дел. Умышленное неправильное применение нормы права в совокупности с “эксклюзивностью” нарушения формирует такое отношение к судье, при котором его статус очевидно несовместим с высоким званием судьи», – заключил Евгений Рубинштейн.
В отличие от первого примера, во втором случае Верховный Суд РФ посчитал законным и соразмерным наказание в виде лишения статуса судьи, как раз применив вышеуказанный критерий. Судья был лишен статуса за то, что принял решение об условно-досрочном освобождении лица, не отбывшего установленный срок, при этом рассмотрев заявление с нарушением правил подсудности.
«В этом деле особое значение сыграло то, что судья самостоятельно, без наличия к тому каких-либо оснований перевел осужденного из мест лишения свободы в СИЗО, которое находилось в территориальной подсудности суда, и, таким образом, сформировал видимость надлежащего определения подсудности. При таких обстоятельствах Верховный Суд посчитал, что ошибка, допущенная судьей, является умышленной (судья не мог не знать о том, что важнейшее условие для применения норм об УДО заключается в отбытии осужденным определенного законом срока наказания в зависимости от тяжести преступления), и тот сам создал условия для видимости надлежащей территориальной подсудности, которая также была ошибочной. Умышленный характер действий судьи с неординарностью допущенной ошибки привели Дисциплинарную коллегию Верховного Суда к выводу, что такое поведение судьи несовместимо с его статусом», – пояснил эксперт.
По мнению Евгения Рубинштейна, для адвокатского сообщества сформулированные Дисциплинарной коллегией ВС РФ позиции могут являться ориентиром при разрешении вопроса о необходимости и целесообразности подачи жалобы в отношении судьи. Также они могут помочь с определением и обоснованием позиции о допущенной судьей ошибке, которая может повлечь за собой дисциплинарное взыскание.
Советник ФПА РФ Нвер Гаспарян в свою очередь полагает, что приведенные в Обзоре подходы Дисциплинарной коллегии могут быть полезны для адвокатского сообщества также и в том, чтобы сформулировать понятные критерии назначения различных мер дисциплинарного воздействия в отношении адвокатов: когда это может быть предупреждение, а когда – лишение статуса.
Пишет судья Грегори Майз, один из редакторов книги «Трудные дела: судьи рассказывают, какие самые сложные решения они принимали» (‘Tough Cases: Judges Tell Stories of Some of the Hardest Decisions They’ve Ever Made’).
Часто дела валятся на судью так, что он едва успевает разобраться и сформулировать решение. Это верно для «простых» процессов. Но изредка попадаются такие запутанные и эмоционально сложные дела, которые способны проверить на прочность даже самых опытных юристов. Это могут быть уголовные, гражданские, наследственные или семейные споры. При этом судья часто не может найти подходящий прецедент, так что ему приходится бороздить неизведанные воды в поисках «справедливого» ответа. А иногда прецедент есть, но он может привести к несправедливому решению.
Еще есть случаи, когда судья имеет широкое усмотрение применить расплывчатый правовой принцип. Например, «в интересах ребенка» в деле об опеке либо «правильный приговор» в уголовном деле, где диапазон может быть от тюрьмы пожизненно до наказания без лишения свободы.
Некоторые дела тяжелы не только сами по себе. Они еще и привлекают внимание целого общества и очень политизируются. Это может быть тяжело для выборных судей. Они знают: какое решение ни примут, оппозиция сможет поднять его на знамена и использовать против него, чтобы лишить статуса. Конечно, политический аспект не должен мешать судье разрешать дела согласно закону и обстоятельствам дела. Но эта обязанность становится еще мучительнее, если знаешь, что решение, скорее всего, будет непопулярным у большей части общества (1).
Маска правосудия
Пишет профессор Юридической школы штата Вермонт Филип Майер.
Моя подруга из колледжа, тогда молодой судебный защитник, получила место судьи первой инстанции в Коннектикуте. Я как-то зашел, чтобы с ней пообедать, но она еще не закончила. Я сел на скамейку и послушал дело.
Оно было сложным. ДТП со смертельным исходом. Пьяный подсудимый сбил молодую мать, которая переходила дорогу по пути из магазина. Но адвокат убеждал, что это особый случай, человеку надо дать условный срок и обязать лечиться. Дело в том, что его подзащитный, ветеран военных действий, недавно вернулся с зарубежной кампании и страдал от серьезного посттравматического стрессового расстройства («афганского синдрома»). От него он лечился самостоятельно – с помощью алкоголя. Адвокат возбуждал глубокое сочувствие к военному, во многом трагическому герою. Ему мало было печали и раскаяния – на них теперь накладывалась вина после аварии.
Не помню, что говорил прокурор и какое наказание предложил. Помню, что сестра пострадавшей рассказывала о ее доброте и щедрости, о том, что маленькая девочка теперь будет расти сиротой. Многочисленные члены семьи умершей плакали на заседаниях. А еще в зале сидело много местных адвокатов по уголовным делам, которые пришли оценить новую судью и ее решение.
Когда она выносила приговор, она смотрела прямо на подсудимого. Она производила впечатление властной и сильной, не выдавала никаких сомнений в тех обстоятельствах, которые повлияли на ее решение. Вспоминается, что она назначила серьезный реальный срок и обязала ветерана пройти лечение в месте заключения.
Хотя ее слова были искренними, мне кажется, им чего-то не хватало. Под новой властной маской судья скрыла все свои сомнения.
На обеде знакомая, обычно активная и открытая, выглядела необычно сдержанной. Мы не обсуждали это дело. Она очевидно не хотела возвращаться к тому, что случилось в зале заседания. Мне было интересно, повлияло ли на нее число адвокатов среди слушателей. Или, может, будучи молодой матерью, она бессознательно олицетворяла себя с пострадавшей? Понимала ли она, что культурные факторы как-то повлияли на ее решение?
После обеда она вернулась в свой зал заседаний к нерассмотренным делам. С тех пор я часто думал, как сложно быть «хорошим» (беспристрастным, этичным, следующим закону) судьей. Иногда это, должно быть, одиноко и мучительно.
И что судьи говорят сами себе, чтобы их не преследовали мысли об их решениях, в которых часто полно судейского усмотрения?
Судьи в сомнениях
Истории из книги «Трудные дела: судьи рассказывают, какие самые сложные решения они принимали» (‘Tough Cases: Judges Tell the Stories of Some of the Hardest Decisions They’ve Ever Made’).
13 судей рассказали, как разрешали сложнейшие дела в своей карьере. Их истории показывают, что в юриспруденции не всегда возможно найти однозначный ответ. Судья окружного суда Флориды Дженнифер Бейли вспоминает, как у нее не было выбора, кроме как вернуть маленького Элиана Гонсалеса к отцу на Кубу после смерти матери. Женщина попыталась сбежать из Кубы в Майами к родственникам и утонула после крушения судна. Ребенку удалось доплыть до американского берега на автомобильной камере. Но Элиана вернули отцу, хотя родственники были против. Дело вызвало широкий общественный и политический протест против депортации ребенка (2).
Коллеге Бейли Джорджу Гриру выпало решать кейс Терри Шайво, которая с 1990 года находилась в коме в вегетативном состоянии без надежды на улучшение. Ее муж и опекун разрешил прервать жизнь, но родители сопротивлялись. Они начали общественную кампанию. В итоге парламент Флориды принял закон, позволяющий губернатору запретить прерывание искусственного поддержания жизни. Это и сделал губернатор Флориды Джеб Буш. Но новый закон был обжалован и признан неконституционным. Итоговое решение по делу Шайво принял в 2005 году Джордж Грир, который указал отключить аппарат искусственного питания. Тогда он выдержал беспрецедентное давление.
Немногим выпадает противостоять президенту, Конгрессу, законодательной власти и церкви. Я вышел с высоко поднятой головой.
Джордж Грир
Судья Фредерик Вайсберг председательствовал на процессе 33-летней Баниты Джекс, которую обвинили в убийстве всех ее четырех дочерей в Вашингтоне. Будто этого самого по себе недостаточно, Джекс жила с останками своих детей. Разлагающиеся тела помог найти только ужасный запах. По версии Джекс, они все умерли во сне при разных неправдоподобных обстоятельствах. Ее истинная роль была очевидна. Но Вайсбергу пришлось решать, пойти ли навстречу подсудимой, которая хотела отказаться от статуса невменяемой. Он долго опрашивал Джекс, которая выглядела поразительно разумной и даже иногда проницательной, и все-таки разрешил ей отказаться от «защиты невменяемости». В итоге она получила 120 лет в тюрьме (30 лет за каждое убийство) (3).
Даже справедливые решения могут оставлять душевные раны. Судья из Нью-Йорка до сих пор скорбит по ребенку-аутисту, с которым познакомилась, когда была председателем в деле о выселении его отца. Судья почувствовала неладное, поэтому сделала запросы в социальные службы, чтобы убедиться, что с ребенком все хорошо. Они ответили, что все в порядке. Но спустя годы судья узнала, что отец перерезал мальчику горло и оставил умирать в ванной (4).
Судья рассказывает, как совершил ошибку
Судья Верховного суда округа Колумбия Рассел Кэнан признается, что совершил ошибку в одном из своих самых сложных разбирательств. Это было уголовное дело с участием суда присяжных. Кэнан был уверен, что подсудимый вообще ни в чем не виновен. Но он получил записку от присяжных с вопросом: «Если мы признаем его невиновным в «нападении с намерением убить, будучи вооруженным», то можем ли мы по-прежнему признать его виновным в «нападении с опасным оружием»?»
Из этого судья сделал вывод, что они признают подсудимого виновным в «нападении с опасным оружием» и, что еще важнее, во «владении огнестрельным оружием во время насильственного преступления». Последний состав влечет за собой обязательный приговор на пять лет.
Судья опасался, что будет вынужден отправить за решетку сорокалетнего отца маленьких дочерей за преступление, которое он не совершал и обвинитель не доказал. И, возможно, часть вины будет лежать на самом Кэнане, который не удовлетворил ходатайство об оправдательном приговоре [эта бумага подается, когда доказательств недостаточно, чтобы устранить разумные сомнения в виновности – «Право.ru»].
Чтобы спасти подсудимого от тюремного заключения, судья в последний момент добился заключения сделки со следствием, хотя местные нормы запрещали такое вмешательство. Кэнан рассчитывал, что мужчина признает вину в одном из преступлений, которое не предполагает обязательного минимального срока. После этого сам судья применит усмотрение при назначении приговора и назначит ему условный срок.
Как и планировалось, Сэм [подсудимый] неохотно признал вину, а судья это принял. Но затем Кэнан увидел в комнате присяжных забытую бумагу, из которой следовало, что они собирались признать мужчину невиновным по всем пунктам обвинения.
Под угрозой пяти тяжелых лет и под влиянием невысказанного обещания от меня, что он не пойдет в тюрьму, Сэм признал вину. Но мне кажется, что он не делал того, в чем признался. Я пересек черту, чтобы сделать правильно, под серьезным давлением и в исключительных обстоятельствах.
Рассел Кэнан
Рассказ об этой истории дает Кэнану возможность мысленно вернуться назад и извлечь болезненный урок из ошибок. Его можно сформулировать так: «Судья, который желает только хорошего, приходит к неверному решению, когда ставит справедливый исход выше строгого выполнения процессуальных правил. Он узнает, насколько опасно добиваться «грубого [«беззаконного»] правосудия» в сложном деле» (2).
Вольный перевод статей:
1) The Texas Law Book, ‘Tough Cases: Judges Tell Stories of Some of the Hardest Decisions They’ve Ever Made’.
2) ABA Journal, ‘Removing the judicial mask: Judges tell the stories behind their most trying decisions’.
3) Washington Post, ‘How judges weigh shades of gray to make tough legal decisions’.
4) Harward Law Today, ‘Judges and their toughest cases’.
Не так давно меня пригласили выступить на Ковалевских чтениях в Екатеринбурге. Это мероприятие в основном посвящено проблемам уголовного права, но была и общая панель, посвященная судебным ошибкам. Тема моего выступления была такая: почему судьи арбитражных судов допускают ошибки при разрешении дел.
Ниже — текст моего выступления, переданный очень близко к тому, что я говорил. Автор текста — Екатерина Стихина
За приглашение участвовать в таком интересном мероприятии — большое спасибо Denis Puchkov.
* * *
— Семь лет своей жизни я провел в судебной системе, работал в аппарате Высшего арбитражного суда, не понаслышке знаю судейский корпус и вправе рассуждать о причинах судебных ошибок, которые допускают в арбитражных судах при рассмотрении гражданских споров. Для себя я выделяю пять ключевых причин появления судебных ошибок, которые потом обсуждаются в вышестоящих инстанциях.
Первая: к сожалению, правила Арбитражного процессуального кодекса требуют, чтобы суд огласил резолютивную часть судебного акта сразу после окончания слушаний. То есть стороны выступили, суд удаляется в совещательную комнату, потом выходит и провозглашает резолютивку. После этого суд должен в течение некоторого времени — которое установлено кодексом — написать полный текст судебного акта. Раньше я довольно часто слышал от коллег-судей, что дел у них очень много, а времени мало. За день, например, нужно рассмотреть 15 больших сложных споров.
Я успеваю полистать дело, у меня сложилось какое-то первое впечатление о нем, потом послушал стороны, удалился в совещательную сторону, вынес решение, огласил, — говорили судьи. — Начал отписывать решение, погрузился подробнее в детали, изучил документы… Черт! Я неправильно решил дело! Провозгласил неверное решение! Надо было отказывать в иске, а я его удовлетворил.
Можно ли упрекать судью в такой ошибке? Я думаю, нет. Это общий порок того, как устроено рассмотрение гражданских споров в России. Дел слишком много, судей мало, нагрузка на них чересчур большая. Кроме того, к огромному сожалению, процессуальные кодексы устанавливают краткие и неоправданные сроки для рассмотрения дел, в течение которых суд должен вынести решение. Это вообще стилистическая особенность именно российского гражданского процесса — устанавливать сроки для рассмотрения дел. А ведь хорошее правосудие не может быть быстрым. И уж тем более хорошее правосудие не может быть поставлено в жесткие рамки процессуальных сроков для рассмотрения дел.
То есть первую проблему можно эффективно решить, отказавшись от принципа обязательности оглашения судебного акта незамедлительно после окончания слушаний. Судье нужно дать время подумать, почитать, походить, возможно, пообсуждать с коллегами те правовые вопросы, над которыми он рассуждает.
Вторая причина ошибок связана с тем, что многие судьи, которые рассматривают гражданские дела, не всегда осознают отличия стандартов доказывания, которые есть в гражданском процессе и в уголовном. Так, уголовный процесс основан на стандарте доказывания «Вне всяких разумных сомнений». То есть не должно остаться никаких сомнений в том, что подсудимый виновен.
В гражданском процессе стандарт доказывания совсем другой — «Баланс вероятности». То есть скорее был факт, чем его скорее не было. Скорее да, чем скорее нет. Скорее директор действительно подписал этот договор, чем скорее не подписывал. Скорее товар был передан, чем не был.
Мы видим огромную проблему в том, что судьи, которые разбирают гражданские дела, допускают смешение стандартов доказывания. И в первую очередь — в делах о взыскании убытков. Наша судебная практика на протяжении полутора десятков лет пришла к тому, что стандарт доказывания в делах о взыскании убытков был, по сути, задран до того же стандарта, что используется в уголовных делах. Итог очень простой: истец никогда не может доказать убытки. И получается, что самый главный иск в арбитражном суде, иск кредитора о возмещении причиненных ему убытков, — практически проигрышная история.
Если посмотреть судебную статистику по спорам о взыскании убытков, особенно на их удовлетворяемость, она смехотворна! Такого не может быть в нормальном развитом правопорядке.
Третья причина судебных ошибок — это относительно невысокая культура структурирования судебных текстов. Как устроено решение по гражданскому делу сегодня в России: это, как правило, сплошной текст. В лучшем случае мы увидим разделение на абзацы, но никаких частей типа «позиция истца», «позиция ответчика», «позиция суда».
Если мы возьмем, например, акты вышестоящих судебных инстанций, то тоже не увидим деления на блоки: позиция нижестоящего суда; причины, по которым вышестоящий суд не согласился с нижестоящим. Суды просто вываливают на нас сплошной текст на 10-15-20-30 страниц, в котором нет элементарной культуры письменной речи — разделения на смысловые блоки!
А когда ты пишешь такой текст, то ошибиться намного легче. Проще пропустить какие-то аргументы, которые были выдвинуты стороной, замолчать их. И наоборот: если в тексте вы указываете: «У истца было пять аргументов», и дальше, как судья, анализируете: «Первый не подходит потому-то, второй отклоняется по такой причине», то вероятность ошибки намного меньше.
Мы до сих пор не научились писать судебные акты правильно и красиво, и это, в том числе, порождает то, что судьи невнимательно относятся к аргументам сторон, просто иногда замалчивают их, и поэтому допускают ошибки.
Четвертая причина тоже связана с культурой письменной речи, а именно, с культурой написания судебных актов с содержательной стороны.
К огромному сожалению, суды боятся открытых рассуждений. Очень редко когда судья имеет смелость написать: «Свидетель такой-то сказал то-то, но я ему не доверяю, потому что он нервничал, у него бегали глаза. Поэтому те показания, что он дал, скорее всего, недостоверны». Наши судьи не пишут судебные акты от первого лица — я.
Такая деперсонализация, деидентификация судебных актов просто приводит к тому, что судья отстраняется от результата своего творчества, своего детища, и не так тщательно относится к тому, как этот акт будет выглядеть, как будут воспринимать его читатели. (Например, я когда пишу решения по делам, где я выступаю в качестве арбитра, я всегда пишу текст от первого лица «я полагаю», «мне представляется», «меня не убедило» и т.д.).
Давайте возьмем средний акт по гражданскому делу! Что это такое? Это изложение обстоятельств дела, дальше вы увидите 10-15 абзацев, где будут просто процитированы нормы Гражданского кодекса. Например, «в соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом». Как будто мы не знаем, что написано в статье 309 ГК! Зачем это писать? Какой смысл в простом цитировании нормативных актов?
И мы видим пулеметную очередь из абзацев-цитат законов и дальше: «На основании изложенного суд решил». А где логика? Где рассуждения? Как мы поймем, что суд действительно вывел из неких законоположений какое-то умозаключение?
Есть исключения из этого правила, конечно. Но, к сожалению, подавляющее большинство текстов, которые сегодня выносят суды по гражданским спорам, на мой взгляд, не очень убедительны.
И последняя причина ошибок, которые могу допускать судьи, кроется в принципе рекрутинга судейского корпуса.
Не секрет, что основной источник пополнения штата судей в арбитражных судах — это помощники, бывшие секретари судебных заседаний. И, по большому счету, карьера судьи такова: секретарь — помощник — судья. При рекрутинге судей очень опасливо относятся к юристам, которые пришли извне, не работавшим в судебной системе. Мне, например, неизвестны случаи, когда судьями арбитражных судов становились люди, имеющие за плечами практический опыт работы юрисконсультами или адвокатами.
Я не хочу сказать, что помощники судей как судьи хуже, чем бывшие адвокаты. Я хочу просто подчеркнуть: когда карьерная лестница, по которой человек пришел к должности судьи и надел мантию, не содержит в себе опыта практической юриспруденции, такому судье при рассмотрении коммерческих споров будет сложно. Ведь он не знает коммерческой жизни.
При том что в спорах, которые рассматриваются в арбитражных судах, поднимаются сложнейшие вопросы, связанные с банкротством, с привлечением к субсидиарной ответственности лиц, которые довели компанию до несостоятельности. С оспариванием сделок, с привлечением к ответственности директоров, которые действуют во вред интересам компаний. На мой взгляд, крайне тяжело разрешать такие споры правильно, если у тебя нет практического бэкграунда.
Если ты не знаешь бизнес-жизнь изнутри, ее изнанку, не имеешь представления, принято ли в бизнесе делать то, что делал директор, можно ли совершать такие сделки в тех условиях, в каких находился он, как ты можешь выносить суждение о том, действительно ли глава компании действовал против ее интересов?!
Поэтому, к огромному сожалению, ошибки в делах, связанных с непременным наличием бизнес-опыта у того, кто рассматривает спор, завязаны на технологию формирования судейского корпуса. А она сегодня является в России доминирующей.
Материал написан на основе выступления на XVI Международной научно-практической конференции «Ковалевские чтения». http://ekb.dk.ru/news/pyat-prichin-strashnyh-oshibok-sudey-v-arbitrazhah-pochemu-vy-nikogda-ne-dokazhete-svoi-ubytki-237118065?fbclid=IwAR2vVi5ZT-g0YXhSXDN5K7jPbnW6BZvS6MnjTZKkNsk3ihRkXss6xMqFMZY
Семь лет своей жизни я провел в судебной системе, работал в аппарате Высшего арбитражного суда, не понаслышке знаю судейский корпус и вправе рассуждать о причинах судебных ошибок, которые допускают в арбитражных судах при рассмотрении гражданских споров. Для себя я выделяю пять ключевых причин появления судебных ошибок, которые потом обсуждаются в вышестоящих инстанциях.
Первая: к сожалению, правила арбитражно-процессуального кодекса требуют, чтобы суд огласил резолютивную часть судебного акта сразу после окончания слушаний. То есть стороны выступили, суд удаляется в совещательную комнату, потом выходит и провозглашает резолютивку. После этого суд должен в течение некоторого времени — которое установлено кодексом — написать полный текст судебного акта. Раньше я довольно часто слышал от коллег-судей, что дел у них очень много, а времени мало. За день, например, нужно рассмотреть 15 больших сложных споров.
Я успеваю полистать дело, у меня сложилось какое-то первое впечатление о нем, потом послушал стороны, удалился в совещательную сторону, вынес решение, огласил, — говорили судьи. — Начал отписывать решение, погрузился подробнее в детали, изучил документы… Черт! Я неправильно решил дело! Провозгласил неверное решение! Надо было отказывать в иске, а я его удовлетворил.
Можно ли упрекать судью в такой ошибке? Я думаю, нет. Это общий порок того, как устроено рассмотрение гражданских споров в России. Дел слишком много, судей мало, нагрузка на них чересчур большая. Кроме того, к огромному сожалению, процессуальные кодексы устанавливают краткие и неоправданные сроки для рассмотрения дел, в течение которых суд должен вынести решение. Это вообще стилистическая особенность именно российского гражданского процесса — устанавливать сроки для рассмотрения дел. А ведь хорошее правосудие не может быть быстрым. И уж тем более хорошее правосудие не может быть поставлено в жесткие рамки процессуальных сроков для рассмотрения дел.
То есть первую проблему можно эффективно решить, отказавшись от принципа обязательности оглашения судебного акта незамедлительно после окончания слушаний. Судье нужно дать время подумать, почитать, походить, возможно, пообсуждать с коллегами те правовые вопросы, над которыми он рассуждает.
Вторая причина ошибок связана с тем, что многие судьи, которые рассматривают гражданские дела, не всегда осознают отличия стандартов доказывания, которые есть в гражданском процессе и в уголовном. Так, уголовный процесс основан на стандарте доказывания «Вне всяких разумных сомнений». То есть не должно остаться никаких сомнений в том, что подсудимый виновен.
В гражданском процессе стандарт доказывания совсем другой — «Баланс вероятности». То есть скорее был факт, чем его скорее не было. Скорее да, чем скорее нет. Скорее директор действительно подписал этот договор, чем скорее не подписывал. Скорее товар был передан, чем не был.
Мы видим огромную проблему в том, что судьи, которые разбирают гражданские дела, допускают смешение стандартов доказывания. И в первую очередь — в делах о взыскании убытков. Наша судебная практика на протяжении полутора десятков лет пришла к тому, что стандарт доказывания в делах о взыскании убытков был, по сути, задран до того же стандарта, что используется в уголовных делах. Итог очень простой: истец никогда не может доказать убытки. И получается, что самый главный иск в арбитражном суде, иск кредитора о возмещении причиненных ему убытков, — практически проигрышная история.
Если посмотреть судебную статистику по спорам о взыскании убытков, особенно на их удовлетворяемость, она смехотворна! Такого не может быть в нормальном развитом правопорядке.
Третья причина судебных ошибок — это относительно невысокая культура написания судебных текстов. Как устроено решение по гражданскому делу сегодня в России: это, как правило, сплошной текст. В лучшем случае мы увидим разделение на абзацы, но никаких частей типа «позиция истца», «позиция ответчика», «позиция суда».
Если мы возьмем, например, акты вышестоящих судебных инстанций, то тоже не увидим деления на блоки: позиция нижестоящего суда; причины, по которым вышестоящий суд не согласился с нижестоящим. Суды просто вываливают на нас сплошной текст на 10-15-20-30 страниц, в котором нет элементарной культуры письменной речи — разделения на смысловые блоки!
А когда ты пишешь такой текст, то ошибиться намного легче. Проще пропустить какие-то аргументы, которые были выдвинуты стороной, замолчать их. И наоборот: если в тексте вы указываете: «У истца было пять аргументов», и дальше, как судья, анализируете: «Первый не подходит потому-то, второй отклоняется по такой причине», то вероятность ошибки намного меньше.
Мы до сих пор не научились писать судебные акты правильно и красиво, и это, в том числе, порождает то, что судьи невнимательно относятся к аргументам сторон, просто иногда замалчивают их, и поэтому допускают ошибки.
Четвертая причина тоже связана с культурой письменной речи, а именно, с культурой написания судебных актов.
К огромному сожалению, суды боятся открытых рассуждений. Очень редко когда судья имеет смелость написать: «Свидетель такой-то сказал то-то, но я ему не доверяю, потому что он нервничал, у него бегали глаза. Поэтому те показания, что он дал, скорее всего, недостоверны». Наши судьи не пишут судебные акты от первого лица — я.
Такая деперсонализация, деидентификация судебных актов просто приводит к тому, что судья отстраняется от результата своего творчества, своего детища, и не так тщательно относится к тому, как этот акт будет выглядеть, как будут воспринимать его читатели.
Давайте возьмем средний акт по гражданскому делу! Что это такое? Это изложение обстоятельств дела, дальше вы увидите 10-15 абзацев, где будут просто процитированы нормы Гражданского кодекса. Например, «в соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом». Как будто мы не знаем, что написано в статье 309 ГК! Зачем это писать? Какой смысл в простом цитировании нормативных актов?
И мы видим пулеметную очередь из абзацев-цитат законов и дальше: «На основании изложенного суд решил». А где логика? Где рассуждение? Как мы поймем, что суд действительно вывел из неких законоположений какое-то умозаключение?
Есть исключения из этого правила, конечно. Но, к сожалению, подавляющее большинство текстов, которые сегодня выносят суды по гражданским спорам, на мой взгляд, не очень убедительны.
И последняя причина ошибок, которые могу допускать судьи, кроется в принципе рекрутинга судейского корпуса.
Не секрет, что основной источник пополнения штата судей в арбитражных судах — это помощники, бывшие секретари судебных заседаний. И, по большому счету, карьера судьи такова: секретарь — помощник — судья. При рекрутинге судей очень опасливо относятся к юристам, которые пришли извне, не работавшим в судебной системе. Мне, например, неизвестны случаи, когда судьями арбитражных судов становились люди, имеющие за плечами практический опыт работы юрисконсультами или адвокатами.
Я не хочу сказать, что помощники судей как судьи хуже, чем бывшие адвокаты. Я хочу просто подчеркнуть: когда карьерная лестница, по которой человек пришел к должности судьи и надел мантию, не содержит в себе опыта практической юриспруденции, такому судье при рассмотрении коммерческих споров будет сложно. Ведь он не знает коммерческой жизни.
При том что в спорах, которые рассматриваются в арбитражных судах, распространены сложнейшие дела, связанные с банкротством, с привлечением к субсидиарной ответственности лиц, которые довели компанию до несостоятельности. С оспариванием сделок, с привлечением к ответственности директоров, которые действуют во вред интересам компаний. На мой взгляд, крайне тяжело разрешать такие споры правильно, если у тебя нет практического бэкграунда.
Если ты не знаешь бизнес-жизнь изнутри, ее изнанку, не имеешь представления, принято ли в бизнесе делать то, что делал директор, можно ли совершать такие сделки в тех условиях, в каких находился он, как ты можешь выносить суждение о том, действительно ли глава компании действовал против ее интересов?!
Поэтому, к огромному сожалению, ошибки в делах, связанных с непременным наличием бизнес-опыта у того, кто рассматривает спор, завязаны на технологию формирования судейского корпуса. А она сегодня является в России доминирующей.
Отмена решения суда из-за опечатки. Позиция ВС РФ
Верховный суд определил, нужно ли отменять судебный акт, если в нем допущена ошибка в указании ИНН. Судьи сочли такую ошибку технической и не влияющей на содержание документа. Однако указали, что иногда опечатка все же может привести к отмене решения.
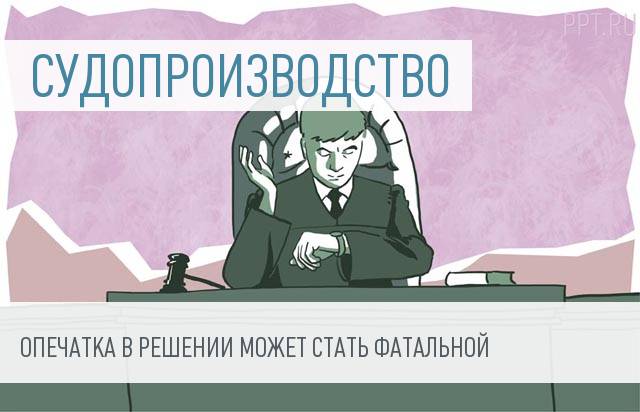
Что случилось?
Коллегия по экономическим спорам Верховного суда рассмотрела, возможность судебного акта из-за ошибки, допущенной в ИНН арбитражного управляющего. В определении по делу № А40-25496/2015 судьи сочли, что исправление ошибочного ИНН арбитражного управляющего в судебном акте не изменяет его содержание и является не более чем техническая формальностью, не влияющей на суть самого решения.
Ошибку можно исправить
Решением Арбитражного суда города Москвы организацию признали банкротом и в нее был назначен арбитражный управляющий. Но в определении суда о его назначении обнаружилась ошибка: в нем неправильно указали ИНН управляющего. Хотя ошибку оперативно исправили, один из конкурсных кредиторов организации не согласился с определением об исправлении опечатки и попытался оспорить его в апелляции. Апелляционный суд жалобу не удовлетворил, а вот кассационная инстанция согласилась с позицией кредитора, который зявил, что апелляция неправильно применила статью 179 АПК РФ. Кроме того, кредитор настаивал, что от исправления опечаток судебный акт изменился, ведь в результате неверного ИНН были полностью изменены идентифицирующие признаки арбитражного управляющего. Окружной суд указал в своем постановлении, что действительно исправление ошибок в ИНН изменяет содержание судебного акта.
Арбитражный управляющий оспорил постановление кассационной инстанции в Верховный суд. Он отметил, что хотя ИНН и служит индивидуализации арбитражного управляющего, в этих данных также может быть допущена опечатка. Исправление опечаток в судебных актах прямо предусмотрено АПК. Поэтому выявленные ошибки носят технический характер, особенно если учесть отсутствие спора о кандидатуре конкурсного управляющего. Внесение исправлений никак не меняет суть определения суда первой инстанции. ВС РФ с такими доводами согласился. Судьи признали изменение ИНН обычным исправлением опечатки.

Дидух Юлия
бухгалтер, юрист
В 1998 году закончила КГАУ, экономический факультет по специальности бухгалтер. В 2006 году ТНУ, юридический факультет по специальности гражданское и предпринимательское право. Опыт работы бухгалтером с 1998 по 2007 год. Пишу статьи с 2012 года
Все статьи автора
Вам может быть интересно: