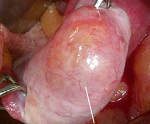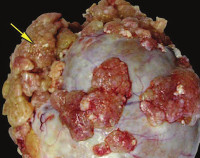Кафедра общей хирургии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава РФ, Рязань, Россия
Андреева Ю.Ю.
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России
- SPIN РИНЦ: 6504-2551
- ORCID:
0000-0003-4749-6608
Новикова Е.Г.
Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена
Шевчук А.С.
ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена» Минздрава России
Завалишина Л.Э.
ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена» Минздравсоцразвития России
Франк Г.А.
Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена Росмедтехнологий, Москва
Клинико-морфологические факторы прогноза при пограничных опухолях яичников
Авторы:
Виноградов И.И., Андреева Ю.Ю., Новикова Е.Г., Шевчук А.С., Завалишина Л.Э., Франк Г.А.
Как цитировать:
Виноградов И.И., Андреева Ю.Ю., Новикова Е.Г., Шевчук А.С., Завалишина Л.Э., Франк Г.А. Клинико-морфологические факторы прогноза при пограничных опухолях яичников. Онкология. Журнал им. П.А. Герцена.
2014;3(3):22‑25.
Vinogradov II, Andreeva YuYu, Novikova EG, Shevchuk AS, Zavalishina LÉ, Frank GA. Clinical and morphological predictors in borderline ovarian tumors. P.A. Herzen Journal of Oncology. 2014;3(3):22‑25. (In Russ.)

История изучения пограничных опухолей яичников (ПОЯ) насчитывает уже около 100 лет, однако многие вопросы до настоящего времени не находят своего ответа. Впервые ПОЯ были описаны в 1929 г. гинекологом из США Говардом Тэйлором [1]. Он назвал эти опухоли «полузлокачественными», подчеркивая тем самым особенности их клинического течения, существенно отличающегося как от классического рака яичников, так и от доброкачественных образований.
В структуре неоплазий яичников доля пограничных опухолей составляет около 10—15%, показатели заболеваемости варьируют в различных странах от 1,8 до 4,8‰. ПОЯ развиваются из поверхностного эпителия яичников и кист-включений. С морфологических позиций эти новообразования характеризуются умеренно выраженными пролиферативной и митотической активностью, стратификацией эпителия, ядерной и клеточной атипией. Принципиальным отличием пограничных опухолей от рака яичников является отсутствие стромальной инвазии и характерного для аденокарцином инфильтративного деструктивного роста. Именно эти морфологические характеристики ПОЯ предопределяют их особенное положение в спектре биологической агрессивности опухолей яичников [2, 3].
Соответственно различным видам эпителия, представленного в женской половой системе, выделяют следующие гистологические типы пограничных опухолей: серозные, муцинозные, эндометриоидные, опухоли Бреннера, светлоклеточные и смешанные. Наиболее часто встречаются серозная (50—55%) и муцинозная формы (40—45%), на долю остальных типов ПОЯ приходится 4—5% наблюдений [4, 5]. Характерной особенностью серозных ПОЯ является высокая частота двустороннего поражения яичников, варьирующая от 28 до 66%. Билатеральные муцинозные опухоли наблюдаются не более чем в 10% наблюдений [6, 7].
Экстраовариальные очаги пограничных опухолей на брюшине получили название «имплантов», которые классифицируют на неинвазивные и инвазивные. Чаще выявляют неинвазивные импланты (75%), характеризующиеся торпидным доброкачественным течением. К особенностям этих имплантов следует отнести возможность злокачественной трансформации, способность формировать обширные очаги фиброза в брюшной полости в результате десмоплазии, нередко приводящие к развитию кишечной непроходимости и, как это ни парадоксально, возможность спонтанной регрессии после удаления первичного очага. Инвазивные импланты обнаруживаются в 25% наблюдений и только при серозном варианте ПОЯ. Клинические и морфологические особенности инвазивных имплантов аналогичны таковым при метастазах рака яичников. Учитывая эти обстоятельства, многие патоморфологи предлагают рассматривать серозные пограничные опухоли с инвазивными имплантами как высокодифференцированные серозные аденокарциномы. В целом, перитонеальная диссеминация на момент установки диагноза определяется у 35—38% пациенток с серозными ПОЯ и у 10—15% с муцинозными [8].
Благодаря длительному торпидному течению, ПОЯ в большинстве случаев (60—85%) диагностируют в I стадии процесса. Частота выявления III стадии заболевания составляет 10—35%, при раке яичников — 60—70%. Особенности биологии ПОЯ и преобладание начальных форм заболевания предопределяют хороший прогноз для больных. Если в течение последних десятилетий в результате применения новейших схем лечения удалось приблизить показатели общей 5-летней выживаемости пациенток с раком яичников к 50%, то выживаемость больных с пограничными опухолями остается достаточно стабильной и превышает 90% [7].
Поскольку удельный вес женщин репродуктивного возраста в структуре заболеваемости ПОЯ достаточно высок (более 30%), вопросы сохранения фертильности занимают центральное место в лечении этой категории больных. Благоприятный прогноз, низкая частота рецидивирования и впечатляющие показатели выживаемости, безусловно, создают предпосылки для более широкого применения органосохраняющих и репродуктивных технологий при ПОЯ, чем при раке яичников [9].
Несмотря на высокие показатели выживаемости, поиск новых и оценка существующих прогностических факторов при ПОЯ имеют существенное значение, особенно при планировании органосохраняющего лечения у молодых пациенток.
Как и при раке яичников, при ПОЯ стадия опухолевого процесса является наиболее важным прогностическим фактором. Известно, что у больных с начальными формами болезни рецидивы развиваются в среднем у 5%, при распространенных стадиях — в 25% случаев, а 5-летняя выживаемость при I—II и III—IV стадиях составляет 98 и 82—90% соответственно [7].
Наличие перитонеальных имплантов, особенно инвазивных, является вторым по значимости фактором прогноза. По своему строению и клиническому течению инвазивные импланты очень схожи с метастазами рака яичников и могут служить маркером злокачественной трансформации пограничной опухоли. По данным P. Morice [10], рецидивы при инвазивных имплантах наблюдаются в 2 (45% против 24%) раза чаще, чем при неинвазивных. Десятилетняя выживаемость пациенток с неинвазивными имплантами пограничных опухолей составляет 90—95%, с инвазивными — 60—70%.
В настоящее время в литературе активно обсуждается прогностическая значимость некоторых морфологических особенностей пограничных опухолей. Так, в серозных пограничных опухолях могут быть обнаружены очаги хрупкой микропапиллярной архитектуры (рис. 1, 2,). Результаты проведенных исследований показали, что рост по поверхности яичника и наличие имплантов больше характерны для микрососочковых серозных пограничных опухолей, чем для типичных [11, 12]. Помимо этого, имеются данные об увеличении частоты рецидивов (до 36%) при микрососочковой структуре пограничной опухоли, выявляемой у 12—18% больных [7].
Много споров ведется вокруг присутствия в ПОЯ кальцификатов, именуемых псаммомными тельцами. Предпринятые попытки определить их возможное прогностическое значение пока не принесли конкретных результатов. Ряд авторов [13] предполагают, что наличие псаммомных телец в высокодифференцированных аденокарциномах обусловлено хорошим прогнозом, объясняя этот факт тем, что их образование связано с повышенным апоптозом в опухоли. Другие [14] считают, что псаммомные тельца не имеют прогностической значимости.
Некоторые авторы [6, 15] связывают высокую частоту рецидивов с наличием микроинвазии, имеющей место у 10—13% больных, и рассматривают фокусы микроинвазии в качестве мелких очагов инвазивного серозного рака, развивающегося на фоне пограничной опухоли. Считается, что это обстоятельство должно служить поводом к изменению диагноза в пользу рака яичников с применением более агрессивной лечебной тактики.
Определенное прогностическое значение при ПОЯ может иметь ДНК-плоидность опухоли. Так, в работах J. Kaern (1993, 2009) было показано, что при анеуплоидии риск умереть от пограничной опухоли в 19 раз выше, чем при диплоидных образованиях [8].
Убедительных данных о том, что гистологический тип опухоли или вовлечение в опухолевый процесс лимфатических узлов является независимым прогностическим фактором, получено не было. Так, проведенный метаанализ 97 исследований, включавший более 4000 больных с ПОЯ, показал, что 6-летняя выживаемость больных с поражением лимфатических узлов составила 98% [16].
Цель настоящего ретроспективного исследования — оценка влияния на развитие рецидива таких морфологических факторов, как гистологический тип, наличие имплантов, псаммомных телец и микрососочковых структур в пограничной опухоли яичников.
Материал и методы
Материалом для исследования служили гистологические препараты пациенток, проходивших лечение или консультированных в МНИОИ им. П.А. Герцена с диагнозом: пограничная опухоль яичников. Исследованы образцы опухолей 101 женщины в возрасте от 18 до 63 лет (средний возраст 32,14 года).
Пациентки были разделены на две группы: 1-я — больные без рецидивов ПОЯ (83 человека — 82,2%); 2-я — больные с рецидивами ПОЯ (18 человек — 17,8%).
Материал фиксировали в 10% забуференном формалине в течение 24 ч, обрабатывали по стандартной методике с использованием ксилола и заливали в парафин. Из блоков изготавливали срезы толщиной 4 мкм, окрашивали гематоксилином и эозином.
Препараты изучали при помощи светового микроскопа Axioskop «OPTON» со стандартным набором оптики. Анализ результатов проводили при помощи пакета программ Statistica 6.0, используя метод процентилей описательной статистики, U-тест Манна—Уитни. Уровень значимости (р) принимали равным 0,05.
Результаты и обсуждение
Нами было выявлено, что подавляющее большинство (78,2%) исследованных ПОЯ были представлены серозным типом. Муцинозные опухоли имели место в 13,8% случаев, смешанные — в 5%, эндометриоидные — в 3%. Однако при изучении распределения типов ПОЯ в исследуемых группах статистически значимых различий обнаружено не было (р>0,05).
Неинвазивные импланты в группе больных без рецидивов отмечены в 15,7% случаев, а в группе с рецидивами — в 77,8%. При этом были выявлены статистически значимые различия по частоте встречаемости имплантов в исследуемых группах (р<0,05). Случаи с наличием инвазивных имплантов в исследование не включали, так как, по данным некоторых авторов [6, 17], при тщательном исследовании первичного очага обнаруживаются структуры инвазивной высокодифференцированной аденокарциномы.
Было установлено увеличение частоты обнаружения имплантов у пациенток с наличием рецидивов ПОЯ. Возможно, это обусловлено тем, что при наличии перитонеальных имплантов в брюшной полости могут оставаться не выявленные при ревизии микроскопические очаги ПОЯ, которые и являются субстратом развития рецидива.
Известно, что импланты встречаются гораздо чаще при серозном типе ПОЯ, что предопределяет более благоприятное течение других пограничных опухолей и сниженный риск рецидивов. Однако в нашем исследовании не выявлено значимых различий при развитии рецидива в зависимости от гистологического типа опухоли.
Псаммомные тельца обнаружены у 30 (29,7%) из 101 больной. У пациенток с рецидивами они были выявлены в 50% случаев, а у пациенток без рецидивов — в 25,3%. При этом зафиксированы статистически значимые различия между исследуемыми группами (р<0,05).
Микрососочковая архитектура в опухоли отмечена в 8 (7,9%) случаях. При этом все наблюдения были представлены рецидивными ПОЯ. В пограничных опухолях без рецидива микрососочковые структуры не выявляли. Статистические различия между исследуемыми группами оказались значимыми (р<0,05).
Таким образом, хрупкая микрососочковая архитектура чаще ассоциирована с наличием перитонеальных имплантов и с развитием рецидивов ПОЯ, что подтверждается результатами проведенного исследования.
Наличие псаммомных телец в опухолях яичника связывают с усиленным апоптозом в опухолевых клетках. Имеются данные о повышенном содержании коллагена IV типа в псаммомных тельцах, что может послужить причиной активизации металлопротеиназ, задействованных в процессах миграции, и инвазии опухолевых клеток. В результате проведенного исследования мы выявили, что псаммомные тельца чаще встречаются в рецидивных опухолях (50% против 25,3%).
Существенно изменившиеся за последние 20 лет представления о природе ПОЯ, их течении и прогнозе позволили в значительной степени расширить показания к применению органосохраняющих хирургических технологий при этих заболеваниях. Эффективность стандартных органосохраняющих операций при начальных стадиях опухолевого процесса высока как с онкологических позиций, так и в аспекте сохранения репродуктивной функции и качества жизни. Показатели 5-летней выживаемости больных приближаются к 100%. Однако рецидивы после органосохраняющего лечения ПОЯ наблюдаются в 2—4 раза чаще, чем после радикальных операций (10—20% против 5%), при этом наиболее характерная локализация рецидива (75%) — сохраненный яичник. Большинство рецидивов имеют неинвазивный характер, риск злокачественной трансформации опухоли при возникновении рецидива составляет 3—20%, и лечение в этих ситуациях должно соответствовать таковому при раке яичников [8, 9].
Проблема консервативного лечения больных с ПОЯ является одной из наиболее актуальных и дискутируемых в вопросах определения границ и возможностей реализации органосохраняющих технологий и обеспечения их онкологической безопасности для пациенток. Планирование органосохраняющего лечения у больных с ПОЯ в каждом конкретном случае требует от клиницистов и патоморфологов совместной и тщательной оценки прогностических факторов. Особое значение последнее обстоятельство приобретает при выполнении ультраконсервативных операций у пациенток с билатеральным поражением яичников, суть которых состоит в сохранении неизмененной части яичника, пораженного пограничной опухолью, путем выполнения его резекции или цистэктомии. В различных публикациях частота рецидивов после цистэктомий варьирует от 12 до 64% (в среднем 30—35%), что существенно превышает аналогичные показатели после типичных органосохраняющих операций, заключающихся в выполнении аднексэктомии с проведением хирургического стадирования. В качестве основных причин продолженного роста рассматриваются мультицентричность опухолевых зачатков, разрыв капсулы кистозных образований с имплантацией опухолевых клеток на поверхности сохраняемого яичника и наличие элементов опухоли в крае резекции [6]. Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют, что микрососочковая структура опухоли и обилие псаммомных телец при морфологическом исследовании могут быть дополнительными факторами риска развития рецидива и должны быть учтены при принятии решения о выполнении органосохраняющей операции, особенно ультраконсервативной.
Мировой опыт консервативных операций при ПОЯ с наличием перитонеальных имплантов в целом невелик, количество проведенных исследований и общее число наблюдений малы. Однако у данных больных авторы отмечают увеличение частоты рецидивов, в том числе в случаях полного удаления имплантов, по сравнению с органосохраняющими операциями у пациенток при I стадии заболевания [18]. Эти данные согласуются с полученными нами результатами в отношении прогностической ценности имплантов и развития рецидива болезни. Тем не менее характер имплантов (инвазивные или неинвазивные) в этих случаях имеет ведущее значение.
В настоящее время проводятся многочисленные исследования, направленные на изучение молекулярно-биологических факторов, влияющих на прогноз ПОЯ. Большое внимание уделяется изучению мутации важных регуляторных генов B-Raf, K-ras, р53, PTEN и исследованию микросателлитной нестабильности. Исследуется экспрессия белка р53, так как сейчас доказана широкая вовлеченность р53 в развитие разных типов опухолей, поскольку выполнение этим белком ряда функций ведет к предотвращению и/или ингибированию опухолевого роста. В то же время прогностическая роль р53 для различных опухолей неравнозначна [19]. Так же изучается прогностическая значимость экспрессии белков р21 и р27 (ингибиторы циклинзависимых киназ), являющихся важнейшими медиаторами ингибирующего эффекта р53 на клеточный цикл. В качестве прогностических критериев проводится исследование экспрессии белков, участвующих в регуляции пролиферации (Ki-67, циклины и др.) и апоптоза (bcl-2, bcl-x, bak, bax, сурвивин). Важными прогностическими факторами для ПОЯ, возможно, могут быть некоторые металлопротеиназы (протеазы, участвующие в ремоделировании внеклеточного матрикса и определяющие инвазивный и метастатический потенциал неопластических клеток) и их тканевые ингибиторы. Необходимо изучение мутаций гена β-катенина (CTNNB1), играющего ключевую роль в особом Wnt-пути сигнальной трансдукции, а также ядерной экспрессии белка β-катенина, связанного с биологической агрессивностью различных опухолей [20]. Таким образом, требуется дальнейшее исследование молекулярно-биологических характеристик пограничных опухолей на большом количестве материала с тщательным сопоставлением полученных результатов и клинических данных. Возможно, полученные результаты позволят выделить совокупность факторов, определяющих биологическую агрессивность этих опухолей, и окажут существенную помощь клиницистам в принятии решений.
Участие авторов:
Концепция и дизайн исследования: Ю.Ю.А., Л.Э.З.
Сбор и обработка материала: А.С.Ш.
Написание текста: И.И.В., А.С.Ш.
Статистическая обработка материала: И.И.В.
Редактирование: Е.Г.Н., Г. А.Ф.
Мы используем файлы cооkies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cооkies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании
файлов cookie, нажмите здесь.
ОБРАЗОВАНИЕ
Пограничные опухоли яичников
Давыдова И.Ю., ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
Кузнецов В В онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, Россия
Карселадзе А.И., Мещерякова Л.А.
В данной статье рассматриваются вопросы клинического течения, морфологии, диагностики и лечения серозных пограничных опухолей яичников. Представлены результаты собственного исследования, даны клинические рекомендации по лечению больных серозными пограничными опухолями яичников.
Ключевые слова:
пограничные опухоли яичников, атипически пролиферирующие опухоли, серозные пограничные опухоли, неинвазивная микропапиллярная low grade серозная карцинома, карцинома яичника низкой степени злокачественности, муцинозная пограничная опухоль, эндометриоидная пограничная опухоль
Для цитирования: Давыдова И.Ю., Кузнецов В.В., Карселадзе А.И., Мещерякова Л.А. Пограничные опухоли яичников // Акушерство и гинекология: новости мнения, обучение. 2019. Т. 7, № 1. С. 92-104. doi: 10.24411/2303-9698-2019-11013.
Статья поступила в редакцию 01.12.2018. Принята в печать 14.01.2019.
Borderline ovarian tumors
DavydovaI.Yu., Kuznetsov V.V., National Medical Research Center of Oncology named after
Karseladze A.I., Meshcheryakova L.A. N.N. Blokhin, Moscow, Russia
The article deals with the problems of clinical course, morphology, diagnostics and management of serous borderline ovarian tumors. The data of the results of investigations are presented. Clinical recommendations on the treatment of the patients with serous borderline tumors are given.
Keywords:
borderline ovarian tumors, atypically proliferating tumors, serous borderline non-invasive micropapil-lary tumors, low grade serous carcinoma, testicular carcinoma nickname of low degree of malignancy, mucinous borderline tumor, endometrioid borderline tumor
For citation: Davydova I.Yu., Kuznetsov V.V., Karseladze A.I., Meshcheryakova L.A. Borderline ovarian tumors. Akusherstvo i ginekologiya: novosti, mneniya, obuchenie [Obstetrics and Gynecology: News, Opinions, Training]. 2019; 7 (1): 92-104. doi: 10.24411/2303-9698-2019-11013. (in Russian) Received 01.12.2018. Accepted for publication 14.01.2019.
Эпидемиология
Пограничные опухоли (код по МКБ 10: С56), или атипически пролиферирующие опухоли яичников (ПОЯ), составляют 15-20% всех эпителиальных новообразований яичников. Пограничные опухоли характеризуются благоприятным прогнозом для большинства больных, причиной
тому является отсутствие стромальной инвазии (за исключением случаев микроинвазии) — основного отличительного признака ПОЯ от злокачественных эпителиальных опухолей.
К наиболее распространенным разновидностям ПОЯ относятся серозные (53%) и муцинозные (43%) варианты. По-
граничные эндометриоидные, светлоклеточные и опухоли Бреннера встречаются в общей сложности в 4% наблюдений. В отличие от рака яичников пограничные опухоли, как правило, определяются на ранних стадиях заболевания и чаще обнаруживаются у женщин пременопаузального возраста. Больные ПОЯ в целом на 10 лет моложе пациенток, страдающих раком яичников (45 и 55 лет). Одним из факторов риска развития ПОЯ является бесплодие, в то время как беременность и лактация, напротив, обладают протективным действием [1-9]. Установление диагноза ПОЯ является прерогативой исключительно морфологического исследования, хотя и для него является непростой задачей.
Общая характеристика
ПОЯ не имеют специфической клинической симптоматики. Больные могут предъявлять жалобы на увеличение живота, боли различной интенсивности, ациклические кровянистые выделения. Иногда опухоли могут проявляться бессимтомными образованиями в малом тазу, самостоятельно обнаруживаемыми пациентками. Довольно часто ПОЯ обнаруживаются при хирургических вмешательствах, связанных с иными причинами [1, 10-13].
Специфических серологических критериев для ПОЯ не существует. Тем не менее, если сравнить уровень СА-125 у здоровых женщин и пациенток с ПОЯ, у последних значения превышают норму в 2 раза [14].
Ультразвуковое исследование (УЗИ) с большей долей вероятности позволяет заподозрить ПОЯ, так как по его результатам можно дать объективную оценку о строении опухоли и визуализировать папиллярные разрастания до 0,2 см. Метод является высокоинформативным, позволяющим выявить пре-допухолевые изменения в яичнике и ранние формы злокачественного процесса [15]. Несмотря на выраженную схожесть изображений с серозным раком яичников, компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) играют важную роль в дифференциальной диагностике ПОЯ [16].
У 1/3 больных с ПОЯ моложе 40 лет возможно выполнение органосохраняющих операций [17-20].
В большинстве исследований, посвященных изучению ПОЯ, установлено отсутствие эффективности химиотерапии [17, 19-21].
Серозные пограничные опухоли яичников
Серозные пограничные опухоли яичников (СПОЯ) более чем в 38% наблюдений являются билатеральными. Морфологический диагноз СПОЯ устанавливается в случаях, когда присутствует комплекс необходимых для этого диагноза гистологических характеристик. К ним относятся гиперплазия эпителия и сосочки, имеющие упорядоченное, иерархическое ветвление, несколько слоев эпителия, крупное ядро с легкой или умеренной атипией, отсутствие микроинвазии (3 мм по протяженности или на площади 5 мм2), перитоне-альные импланты, отсутствие деструктивной инвазии [2230]. У беременных женщин микроинвазивный рост наблюдается в 80% наблюдений [31, 32]. В настоящее время случаи со стромальной микроинвазией ПОЯ классифицируются как аденокарцинома низкой степени злокачественности (Low grade serous carcinomas). Они отличаются благоприятным
течением, микроинвазия в данном случае не ухудшает прогноза особенно при I стадии заболевания [33]. При микроинвазии СПОЯ консервативные объемы хирургических вмешательств вполне приемлемы [7, 9].
Экстраовариальное распространение характерно для СПОЯ. Импланты встречаются у 30% больных СПОЯ. Вопрос о делении имплантов на инвазивные и неинвазивные в настоящее время трактуются более детально с привлечением большого количества сугубо морфологических признаков. Наличие большого количества инвазивных имплантов на сегодняшний день рассматривается как рак Low grade [34].
У 27% больных клетки серозной пограничной опухоли можно обнаружить в лимфоузлах, однако, в отличие от злокачественных опухолей, на прогноз это не влияет [35].
При СПОЯ мутации KRAS наблюдаются более чем в 50% случаев, а мутации BRAF встречаются более чем у У3 больных [36-38].
СПОЯ микропапиллярного варианта (неинвазивная микропапиллярная Low grade серозная карцинома) составляет 6-26% всех СПОЯ. Микропапиллярный компонент при микропапиллярном варианте СПОЯ занимает площадь не более 5 мм в длину. Если площадь больше и наблюдается увеличение ядерной атипии, опухоль классифицируется как Low grade серозная карцинома [39, 40]. Микропапиллярные СПОЯ чаще встречаются при распространенных стадиях заболевания. При микропапиллярном варианте СПОЯ инвазивные и неинвазивные импланты (как они ранее классифицировались) встречаются с одинаковой частотой — 40%, а у 20% больных микропапиллярными СПОЯ наблюдаются смешанные инвазивные и неинвазивные импланты [39]. При микропапиллярном варианте СПОЯ отмечается большая частота рецидивов по сравнению с типичным вариантом СПОЯ и менее благоприятный прогноз.
Прогноз СПОЯ зависит от стадии заболевания, так как при начальных стадиях болезни рецидивы развиваются в среднем у 5% больных, при распространенных — у 25%. 5-летняя выживаемость при I-II стадиях соответствует 98%, а при III-IV — 82-90% [41, 42].
Широкое внедрение органосохраняющих операций позволяет сохранить менструальную функцию у 95-100% больных, а способность к спонтанным беременностям у 40-72% пациенток. Влияние беременности на прогрес-сирование заболевания не установлено, поэтому вопрос о предстоящей беременности можно решать спустя 3-6 мес после органосохраняющего лечения [43, 44].
ПОЯ несерозных гистотипов (муцинозные, эндометриоидные, Бреннера, светлоклеточные) — это, как правило, односторонние образования, для которых не характерны пе-ритонеальные импланты.
Муцинозные пограничные опухоли яичников
Муцинозные пограничные опухоли яичников (МПОЯ) составляют 35-45% всех ПОЯ, занимают 2-е место после СПОЯ. Дифференциальная диагностика МПОЯ с инвазивным муцинозным раком яичника и метастазами в яичнике крайне затруднительна. Нередко метастазы злокачественной опухоли аппендикса в яичнике принимают за МПОЯ, в связи с чем аппендэктомия ранее являлась этапом хирургического
лечения МПОЯ. В настоящее время аппендэктомия рекомендована только тем больным, у которых при внимательном осмотре аппендикса определяется патология. Обычно МПОЯ представлены односторонними опухолями крупных размеров. Тем не менее встречаются и двусторонние опухоли (5% при интестинальном типе МПОЯ и 30-40% при эндоцервикальном типе). Импланты для МПОЯ не характерны. В случаях обнаружения имплантов при муцинозных опухолях в первую очередь необходимо исключить злокачественную природу первичной опухоли яичника или его метастатическое поражение.
Одним из характерных осложнений МПОЯ является псев-домиксома брюшины. 10-летняя выживаемость при МПОЯ составляет 95% [24, 45, 46].
Классификация и определение стадии
В соответствии с гистологической классификацией (ВОЗ, 2014 г.) выделяют следующие варианты пограничных опухолей:
Серозные опухоли:
Серозная пограничная/атипически пролиферирующая опухоль.
Серозная пограничная опухоль — микропапиллярный ва-риант/неинвазивная Low grade серозная карцинома.
Муцинозные опухоли:
Муцинозная пограничная/атипически пролиферирующая муцинозная опухоль.
Эндометриоидные опухоли:
Эндометриоидная пограничная/атипически пролиферирующая эндометриоидная опухоль.
Светлоклеточные опухоли:
Светлоклеточная пограничная/атипически пролиферирующая светлоклеточная опухоль.
Опухоли Бреннера:
Пограничная опухоль/атипически пролиферирующая опухоль Бреннера.
Серозно-муцинозные опухоли:
Серозно-муцинозная/атипически пролиферирующая се-розно-муцинозная опухоль.
Пограничные опухоли яичников стадируют согласно классификациям TNM и FIGO рака яичников (8-е издание, 2014 г.).
Материал и методы
Проведен ретроспективный и проспективный анализ 405 больных с СПОЯ за 1970-2013 гг., проходивших обследование и лечение в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России (Москва) (далее — НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина). Настоящее исследование включало 2 этапа:
Таблица 1. Уровень СА-125 у первичных больных с серозными пограничными опухолями яичников
СА-125, Количество больных,
Е/мл абс. (%)
< 380 148 (80,4)
400-700 15 (8,2)
700-6554 21 (11,4)
Всего 184 (100)
1 — ретроспективный анализ 245 историй болезней больных с СПОЯ, подвергшихся лечению в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина с 1970 по 2013 г. В историях болезней изучены статус на момент обращения, течение болезни, частота рецидивов и выживаемость;
2 — проспективное исследование, в которое были включены 105 пациенток, проходивших лечение в стационаре НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, и 55 пациенток, оперированных в других лечебных учреждениях в органосохраня-ющих объемах.
Все 160 пациенток проспективной группы подверглись динамическому наблюдению, сроки которого варьировали от 5 до 10 лет. Данным больным проводили УЗИ брюшной полости как на дооперационном этапе, так и при динамическом контроле после органосохраняющих хирургических вмешательств. Морфологический материал больных, оперированных в других лечебных учреждениях, повторно пересматривали в лаборатории патологической анатомии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
Результаты
В нашем исследовании возраст больных варьировал в широком диапазоне, минимальный возраст составлял 15 лет, максимальный — 78 лет (медиана — 38 лет).
Более 1/3 больных (37,2%) жалоб не предъявляли. Основные жалобы: боли внизу живота (32,2%), увеличение живота в объеме (15,1%), острые боли в животе (7,9%) и др. Причины, по которым больные попадали в гинекологический стационар: жалобы (42,7%), профосмотр или обследование в связи с интеркуррентными заболеваниями (40,3%), симптом «острого живота» (6,8%), бесплодие (6,4%) и др.
Уровень маркера СА-125 на дооперационном этапе определялся у 184 больных (табл. 1). У большинства пациенток с СПОЯ (80,4%) уровень СА-125 не превышал 148 Е/мл.
В нашей работе медиана СА-125 до первой операции была равна 98,5 Е/мл. Отчетливо определялась корреляция показателей СА-125 со стадией заболевания, поскольку при IIIC стадии мы наблюдали очень высокие уровни маркера — от 1500 до 6554 Е/мл. Минимальный уровень составил 1 Е/мл, а средний — 420 Е/мл.
Таким образом, можно утверждать, что высокий уровень СА-125 (от 700 до 6500 Е/мл) характерен для распространенных ПВ-ШС стадий заболевания. Однако в редких случаях очень высоких показателей маркера (13,3%) стадия может оказаться ранней — 1В, а СА-125 может изменяться в пределах от 2266 до 6554 Е/мл.
Репродуктивная функция больных СПОЯ была следующей: нормальные беременности и роды наблюдались у 61,5% больных, у 25,4% беременностей не было, у 57 (14,1%) пациенток установлено первичное бесплодие (вторичное — у 1%). У 37,3% в анамнезе были артифициальные аборты, у 0,5% — выкидыши, у 19 (4,7%) пациенток СПОЯ в анамнезе отмечена внематочная беременность, из них у 5 (1,2%) отмечалось несколько внематочных беременностей. В 4,2% наблюдений больные СПОЯ — virgo. У 15 (3,7%) пациенток заболевание выявлено на фоне беременности и после родоразрешения больные подверглись хирургическому лечению в различных объемах.
Морфологическая оценка опухоли яичников — наиболее важный и довольно сложный этап диагностики, требующий участия квалифицированного морфолога. Так, мы наблюдали высокую долю диагностических ошибок на этапах первичной диагностики послеоперационного материала. Из всех 191 (47,1%) пациенток с СПОЯ, оперированных в других лечебных учреждениях и включенных в нашу работу, только у 92 (48%) больных был установлен правильный диагноз. Иначе говоря, более чем в половине случаев наблюдались ошибки морфологической диагностики чаще в сторону гипердиагностики. Так, у 2/3 больных СПОЯ ошибочно трактовалась как рак яичников, а у 1/3 как доброкачественная опухоль.
Асцит — нечасто встречающийся симптом при СПОЯ. Так, в нашем исследовании выпот в брюшной полости, или асцит, наблюдался у 14,3% пациенток. У 85,7% больных с СПОЯ асцита не наблюдалось. Среднее количество асци-тической жидкости составило 300 мл, минимальный объем был в виде выпота — 20-50 мл, максимальный — 15 л. Несмотря на то что объем асцитической жидкости мог быть выраженным от 5 до 15 л, в 5 наблюдениях у больных с выраженным асцитом встречалась IA стадия заболевания. Наличие асцита не влияло на выживаемость без прогресси-рования (ВБП) (рис. 1).
Цитологическое исследование асцитической жидкости не всегда соответствовало морфологическому диагнозу. При цитологическом исследовании у 5 (25%) пациенток в асците обнаружены клетки СПОЯ, у 12 (60%) больных найденные клетки интерпретированы как клетки рака. При гистологическом исследовании диагноз рака был подтвержден только у 1 (5%) больной, у остальных — 11 (55%) больных — опухоль соответствовала серозной пограничной цистаденоме. Наличие клеток опухоли в смывах при I стадии не влияло на выживаемость без прогрессирования (табл. 2).
СПОЯ почти у 60% больных встречалась в начальной стадии заболевания (табл. 3).
При статистическом анализе было установлено, что ВБП при III стадии была статистически значимо меньше, чем при I или II стадии заболевания (р=0,001) (табл. 4).
Одномоментное двустороннее поражение яичников отмечено у 36,5% больных. В большинстве это касалось случаев больных с макроскопическими и ультразвуковыми признаками двустороннего опухолевого поражения. В дальнейшем у 19% пациенток, перенесших одностороннюю ад-нексэктомию по поводу СПОЯ, во втором яичнике de novo
Функции дожития
0 24 48 72
Асцит
96 120 144 168 192 216 240 Рецидив 1
■ 0 — цензурированные 1 — цензурированные
Рис. 1. Выживаемость без прогрессирования в зависимости от наличия асцита (0 — асцита нет, 1 — асцит есть)
возникала СПОЯ в сроки от 6 мес до 20 лет, т.е. с течением времени количество больных с поражением двух яичников возрастало с 38,7 до 43,2%.
Хирургическое лечение больных с серозными пограничными опухолями яичников
Сроки хирургического вмешательства от появления первых симптомов или выявления кисты яичника до первой операции варьировали от 2 нед до 192 мес (медиана -1 мес). При статистическом исследовании мы не выявили влияния сроков выполнения операции на выживаемость больных СПОЯ.
Временной диапазон изучаемой проблемы превысил 40 лет и включал период с 1970 по 2013 г. Ниже представлена гистограмма распределения объемов хирургических вмешательств в разные периоды времени (рис. 2).
Таблица 2. Выживаемость без прогрессирования в зависимости от наличия клеток в смывах при I стадии
I Наличие опухолевых клеток в смывах I 5-летняя выживаемость, % 1 10-летняя выживаемость, % 1 Р
Нет (л=34) 95,2 95,2 0,358
Есть (n=28) 92,6 81
Таблица 3. Распределение больных с серозными пограничными опухолями яичников по стадиям
Абс. (%) A В C
I стадия 241 (59,5%) 56 (23,2%) 65 (27%) 120 (49,8%)
II стадия 62 (15,3%) 11 (17,7%) 22 (35,5%) 29 (46,8%)
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
III стадия 102 (25,2%) 48 (47%) 35 (34,3%) 19 (18,6%)
Таблица 4. Выживаемость без прогрессирования в зависимости от стадии заболевания
Стадия I 5-летняя выживаемость, % I 10-летняя выживаемость, % 1 Р 1
I (n=241) 93,8 86,8
II (n=62) 96,3 86,7 0,001
III (n=102) 82,7 63,7
Троакарные рецидивы мы встречали только в 3 наблюдениях, все 3 пациентки были оперированы, сейчас наблюдаются, без признаков прогрессирования заболевания. Срок наблюдения — более 20 лет.
При статистической оценке влияния объема хирургического вмешательства на выживаемость было установлено, что объем операции не оказывал статистически значимого влияния на ВБП (р=0,230) (табл. 5).
Консервативные и ультраконсервативные операции при серозных пограничных опухолях яичников
Повторные операции после первичных нерадикальных операций были выполнены у 153 (82,7%) из 185 пациенток с СПОЯ, перенесших консервативные и ультраконсервативные операции.
Обобщая полученные результаты, можно заключить, что в группе больных, у которых обнаруживали СПОЯ в контрала-теральном яичнике, важным признаком стал интервал между первой и второй операцией и ультразвуковые признаки пограничной опухоли в оставшемся яичнике.
Операции, выполняемые профилактически сразу после первой операции без клинических признаков опухолевой патологии другого яичника, в 91% случаев не оправданы (табл. 6).
100
100-
90 /
80
70
60-
50- /
40- /
30-
20
10 00
0
19501980 гг.
19801990 гг.
19902000 гг.
20002010 гг.
20102017 гг.
□ Ультраконсервативные
□ Консервативные
□ Радикальные
Рис. 2. Распределение пациенток в зависимости от объема операции в разные периоды времени (ультраконсервативные — резекции яичника, консервативные — аднексэктомия, радикальные — экстирпация/надвлагалищная ампутация матки с придатками)
Повторные операции, которые выполняли больным после лапароскопических резекций яичника, позволили гистологически выявить остаточную опухоль в 25 (71,4%) случаев.
Противоположная ситуация наблюдалась при резекциях яичника путем лапаротомии. Из 16 пациенток, которым выполнялась ультраконсервативная операция открытым доступом, у 13 (81,3%) пациенток в резецированном яичнике СПОЯ не обнаружено. Остаточная опухоль обнаружена всего у 3 (18,7%) больных, причем обращает на себя внимание тот факт, что повторные операции у этих больных были выполнены не сразу после первой операции, а через 3, 4 и 1,5 года при появлении в яичнике солидно-кистозного компонента при УЗИ (табл. 7).
Удаление неизмененного яичника или яичника с гладкой тонкостенной кистой приводило к тому, что в 24,5% случаев придатки удаляли без достаточных оснований.
Резекция контралатерального яичника выполнена 108 больным. У 54 (50%) пациенток патологии в резецированном яичнике не обнаружено.
При выявлении ультразвуковых признаков рецидива СПОЯ в 90,5% наблюдений можно ожидать морфологически доказанный рецидив опухоли. УЗИ можно считать важным методом инструментальной диагностики при мониторинге рецидива СПОЯ.
Эти данные свидетельствуют об отсутствии экстренности при повторном планировании хирургического вмешательства.
Интервал от первой до второй операции является важным фактором в выявлении рецидива СПОЯ. Интервал от 1 года и более, присутствие ультразвуковых признаков солидно-кистозного образования в резецированном яичнике с большей долей вероятности будет говорить в пользу рецидива в нем.
У 7 (9,2%) больных в результате первой ререзекции опухоли не обнаружено, а в результате второй ререзекции была обнаружена СПОЯ. 3 больным выполнено 3 ререзекции, в результате при первой ререзекции опухоли не обнаружено, а при второй и третьей ререзекции обнаружена СПОЯ.
В группе больных, которым выполнялись консервативные операции (185 пациенток) наблюдались не только I стадии заболевания: II стадии СПОЯ (IIB и НС) были у 15 (8,2%) больных, III стадии — у 31 (16,8%) больной (IIIA и IIIB стадии).
Соответственно в этой группе были пациентки с дис-семинацией в малом тазу [26 (14,1%) больных] и даже в брюшной полости у 3 пациенток. При повторных операциях у 16 больных с диссеминацией в малом тазу наблюдалась регрессия имплантов, химиотерапия данным больным не проводилась.
После органосохраняющих объемов хирургических вмешательств менструальная функция восстановилась у всех пациенток, у 35 (21%) больных возникли самостоятельные бе-
Таблица 5. Сравнительный анализ выживания без прогрессирования в зависимости от типа операции
1 Тип операции 1 5-летняя выживаемость, % 1 10-летняя выживаемость, % 1 Р 1
Ультраконсервативные (п=51) 100 100
Консервативные (п=113) 93,7 89,5 0,230
Радикальные (п=208) 94 82,8
Таблица 6. Факторы, влияющие на целесообразность повторной операции
1 Время между 1-й и 2-й операцией 1 УЗ-признаки 1 1-я операция лапароскопическая 1
90% — 1-2 мес (не оправданы) 84% — солидно-кистозное образование с папилляр- Есть опухоль в единственном
85% — более года (оправданы) ными разрастаниями и перегородками — серозные по- оставшемся яичнике — 27,3%
граничные опухоли в яичнике Нет опухоли — 31,8%
91% — без патологии или киста — не серозные
пограничные опухоли в яичнике
ременности, 27 (16,5%) пациентки родили здоровых детей, из них 9 (5,5%) женщин забеременели и родили в промежутке между операциями по поводу СПО оставшегося яичника. Одна из них забеременела и родила в межрецидивный период (троакарный рецидив).
Также в нашем исследовании было 11 пациенток, которые забеременели и родили здоровых детей после удаления СПОЯ. У всех этих больных стоял диагноз первичного бесплодия.
В целом повторные операции были оправданы у 87 (73,1%) больных, причем у тех 83,3%, у которых по данным УЗИ в яичнике определялись признаки опухоли (кисты с папиллярными разрастаниями и/или перегородками). Соответственно, у 26,9% пациенток повторные операции были нецелесообразны.
Тем не менее повторные операции не влияли на выживаемость, поскольку, как уже говорилось, ультраконсервативные и консервативные операции отличались наиболее высокой безрецидивной и общей выживаемостью.
Таким образом, 2/3 больных с СПОЯ, подвергшихся консервативным операциям на I этапе, нуждаются в первой повторной операции, каждая 10-я больная — во второй и в крайне редких случаях необходима третья повторная операция.
Лишь в половине наблюдений повторные операции оправданы (табл. 8).
Объемы повторных операций в зависимости от технических возможностей также могут быть органосохраняющими.
Макроскопические особенности серозных пограничных опухолей яичников
Размеры СПОЯ варьировали от 4-5 до 40 см в диаметре. Было отмечено, что при размере опухоли <10 см I стадия заболевания встречалась на 10,5% чаще по сравнению с опухолями >10 см. Количество экстрагонадных рецидивов в группе больных с опухолью размерами >10 см было незначительно выше (на 1,8%).
При изучении разрыва капсулы опухоли, который мы наблюдали у 16 больных, было установлено, что этот процесс при I стадии СПОЯ достоверно не влиял на выживаемость без прогрессирования (табл. 9).
Микроскопические особенности серозных пограничных опухолей яичников
Микроскопическое строение СПОЯ в целом характеризовалось однотипностью в отличие от других, например, муци-нозных вариантов пограничных новообразований. Исходная бластемная ткань всегда имела однослойную структуру. В тех случаях, когда в срез попадали участки прилежащей ткани яичника, были четко видны переходы от выстилки кистозно-сосочковой опухоли к активированному покрову яичника. Очень часто переход осуществлялся через структуры грубо-сосочкового папилломатоза. Последние макроскопически могут создавать ложное впечатление массивности опухоли. Подобная особенность еще раз подчеркивает важность количественного учета удельного веса пограничных структур в серозных опухолях с разными стадиями морфогенеза.
Таблица 7. Соотношение ультразвуковой картины и гистологического заключения у больных с подозрением на рецидив серозных пограничных опухолей в яичнике (СПОЯ), которым первоначально была выполнена резекция яичника
1 Яичник нормальной структуры (п=14) 1 Солидно-кистозный яичник (п=21) 1 Макрокиста (п=15) 1
3 (21%) — СПОЯ 19 (90,5%) — СПОЯ 6 (40%) — СПОЯ
11 (79%) — норма/киста желтого тела 2 (9,5%) — норма/киста желтого тела 9 (60%) — норма
Таблица 8. Результаты ререзекции яичника после консервативных операций по поводу серозных пограничных опухолей яичников
Серозная Серозная Опухоли Общее количество
пограничная опухоль цистаденома не обнаружено ререзекций
оставшегося яичника
Общее количество консервативных операций
31 (40,8%)
8 (10,5%)
24 (31,6%)
76 (18,8%)
185 (45,7%)
Таблица 9. Выживаемость без прогрессирования в зависимости от нарушения целостности капсулы опухоли при I стадии серозных пограничных опухолей яичников
I Разрыв капсулы I 5-летняя выживаемость, % I 10-летняя выживаемость, % I Р 1
Нет (п=183) 94,6 88,6 0,747
Да (л=16) 100 100
Таблица 10. Сравнительный анализ выживаемости без прогрессирования в зависимости от резекции большого сальника
Резекция большого сальника 5-летняя выживаемость, % 10-летняя выживаемость, % Р
Выполнена резекция большого сальника на первом этапе (п=234) 93,3 88,9
Не выполнена резекция большого сальника (п=66) 96 87,3 0,012
Отсроченное удаление большого сальника (п=102) 98 94,5
В самом деле, очажки, соответствующие описанным клеточным элементам, мы находили в <5% СПОЯ, однако никакой связи с прогнозом или с особенностями клинического течения мы не уловили. Однако там же, в разделе микроинвазии классификация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) акцентирует наше внимание на другие структуры — однозначного микрососочкового рака, с признаками инвазии, т.е. переход в инвазивный микропапиллярный рак.
Большой сальник
Важным вопросом в изучении СПОЯ является роль большого сальника. Нередко больным первоначально большой сальник не удаляли, поскольку пациентки были оперированы по поводу кисты яичника без подозрений на возможный пограничный характер опухоли. Больные поступали в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, где им выполнялись повторные, стадирующие операции. Мы изучили влияние резекции большого сальника на безрецидивную выживаемость и разделили больных на 3 группы: 1-я — пациентки, которым первоначально выполняли резекцию большого сальника; 2-я — больные, которым не выполняли резекцию большого сальника; 3-я — пациентки, которым выполняли резекцию большого сальника при повторных стадирующих операциях, по факту получения гистологического заключения СПОЯ.
Из табл. 10 следует, что 5-летняя ВБП была несколько выше в группе больных, которым на первом этапе резекцию большого сальника не выполняли. Лучшие цифры 10-летней ВБП получены в группе пациенток, которым сальник удален позже (94,5%). Различия между этими тремя группами статистически значимы (р=0,012).
По нашему мнению, подобные результаты были получены в связи с тем, что большой сальник у многих больных удаляли на первом этапе при видимом распространении опухоли за пределы яичников, т.е. при видимой распространенной стадии
заболевания. У всех пациенток, у которых большой сальник не удаляли или удаляли позже (при рецидиве в яичнике или профилактически, после установления диагноза СПОЯ), стадия не превышала ША, а в большинстве случаев была I.
Таким образом, не следует стремиться к резекции большого сальника, если он не был удален на первом этапе лечения. Достаточно наблюдения с помощью УЗИ, при рецидиве СПОЯ всегда остается возможность резецировать большой сальник позже.
Экстраовариальное распространение серозной пограничной опухоли яичника
Экстраовариальное распространение наблюдали у 143 (35%) больных СПОЯ (табл. 11). Это были мелкие белесоватые налеты по брюшине малого таза, называемые им-плантами, и опухолевая диссеминация в различных отделах брюшной полости.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
Импланты по брюшине морфологически были установлены у 93 (23%) больных СПОЯ, из них инвазивные импланты выявлены у 15 (16,1%) пациенток, импланты в большом сальнике у 27% больных СПОЯ. При повторном пересмотре стеклопрепаратов выявлено, что практически у всех больных импланты располагались под мезотелиальным покровом брюшины, т.е. были инвазивными.
Мы провели статистический анализ влияния имплантов на безрецидивную выживаемость. Оказалось, что наличие имплантов по брюшине ассоциировалось со статистически значимой меньшей ВБП (р=0,002) (табл. 12).
Как и присутствие имплантов, наличие опухолевой дис-семинации статистически значимо влияло на ВБП (р<0,001). При наличии диссеминации в брюшной полости (по париетальной и висцеральной брюшине) прогноз был наихудшим: 5- и 10-летняя ВБП составляла 80,6 и 63,8% соответственно (табл. 13).
Таблица 11. Характеристика распространенности серозной пограничной опухоли яичника по брюшной полости
1 Локализация диссеминатов I Количество больных, абс. (%) I Остаточная опухоль I
Малый таз 84 (23,2)
Брюшная полость 17 (9,4) 49 (12,1%) — малый таз
Тотальная диссеминация по всей брюшной полости 21 (5,2) 21 (5,2%) — брюшная полость
по типу канцероматоза 6 (1,5%) — локализация не уточнена
Всего 122 (35)
Таблица 12. Сравнительный анализ выживаемости без прогрессирования в зависимости от наличия имплантов по брюшине
I Наличие имплантов по брюшине I 5-летняя выживаемость, % I 10-летняя выживаемость, % 1 Р 1
Нет (n=59) 100 100 0,002
Да (n=93) 82,3 67,3
Микропапиллярный вариант серозных пограничных опухолей яичников и инвазивный рак low grade на их фоне
У 14 пациенток на фоне СПОЯ был установлен рак Low grade. Прогрессирование и летальный исход произошел у 71% больных распространенными стадиями рака Low grade яичников на фоне СПОЯ. Появление метастазов рака Low grade по брюшине приводило к неблагоприятному течению заболевания. При раке Low grade была отмечена временная эффективность проводимой химиотерапии, оцененная данными КТ и МРТ. Однако химиотерапия не способна излечить больных с диссеминацией рака Low grade. Во всех наблюдениях прогрессирование возникало вновь, чаще всего в течение 4 лет. Начальные стадии заболевания (n=3) — IA, IB, IIA, IIB стадии — протекали благоприятно, без прогрессирования. При этом необходимо отметить, что при IIB стадии выполняли полную циторедуктивную операцию без остаточной опухоли. Прослеженность составила 5 лет.
Микропапиллярный вариант СПОЯ наблюдали у 10 больных. Для микропапиллярного варианта СПОЯ характерно первичное бесплодие (70%) и двустороннее поражение яичников (90%), чаще синхронное. Если изменений во втором яичнике не наблюдается, контралатеральный яичник может быть вовлечен спустя 1-2 года после первой операции. Микропапиллярные СПОЯ могут протекать по двум вариантам: доброкачественно (если нет инвазии) или злокачественно (если опухоль представлена инвазивным раком Low grade). Основным критерием, позволяющим прогнозировать течение заболевания, согласно новой классификации, является точная морфологическая оценка опухоли.
Внегонадные рецидивы СПОЯ развились у 37 (9,1%) больных. При анализе полученных данных мы пришли к заключению, что причинами развития локальных рецидивов, мультифокальных опухолей и диссеминации могут быть несколько факторов. Локальные рецидивы (n=23) развивались в месте удаленного яичника, мультифокальные рецидивы (n=7) — из очагов множественных имплантов, которые развивались в СПОЯ. Источником солитарных рецидивных опухолей, возникающих по брюшине или жировой клетчатке, также являлись очаги имплантов, в редких случаях это могли быть троакарные рецидивы (n=3). Второй причиной мультифокальных рецидивов и диссеминации являлись муль-тицентрические зачатки эндосальпингоза, которые транс-
формировались в СПОЯ. Отдельно необходимо выделить случаи выявления в рецидивной опухоли и диссеминатах рака, возможно, не распознанного в первичной опухоли, которая трактовалась как серозная пограничная цистаденома. Можно также предположить, что в диссеминатах происходила дедифференцировка опухоли с появлением структур рака Low grade.
Химиотерапия серозных пограничных опухолей яичников
Большинство авторов утверждают, что химиотерапия неэффективна при лечении пограничных опухолей яичников. Тем не менее в мировой и отечественной литературе, в том числе в ряде рекомендаций, можно встретить публикации, в которых авторы рекомендуют проведение химиотерапии при II-III стадиях заболевания. Чтобы ответить на вопрос, эффективна ли химиотерапия при лечении СПОЯ, мы провели статистический анализ в зависимости от стадии заболевания.
В нашем исследовании химиотерапию после операции проводили 140 (34,6%) больным СПОЯ в различных режимах. Режимы без производных платины проводили 61 (43,6%) больным, платиносодержащие режимы — 74 (52,9%) пациенткам, у 5 (3,6%) больных данные о режимах химиотерапии отсутствовали.
Как ни странно, мы получили результаты, при которых отмечалось негативное влияние химиотерапии на выживаемость (табл. 14).
Из анализа следовало, что назначение химиотерапии ассоциировалось со статистически значимо меньшей продолжительностью ВБП (р<0,001).
Из статистического анализа очевидно, что химиотерапия в лечении СПОЯ неэффективна, а назначалась она в большинстве случаев у больных с распространенной стадией заболевания — фактора, влияющего на ВБП.
Общая выживаемость (ОВ) больных СПОЯ соответствовала 98,9% (5-летняя) и 94,9% (10-летняя) (рис. 3).
Таким образом, принимая во внимание полученные данные, мы выявили ряд факторов, влияющих на ВБП. К ним относятся: стадия (III стадия vs I—II стадии), наличие имплантов по брюшине, эндосальпингоза, остаточной опухоли в малом тазу или в брюшной полости, степень диссеминации опухоли до операции, прове-
Таблица 13. Выживаемость без прогрессирования в зависимости от диссеминации
Диссеминация 5-летняя выживаемость, % 10-летняя выживаемость, % Р
Нет (п=291) 97,7 95,2
Малый таз (п=65) 94,6 90,2 <0,001
Брюшная полость, париетальная и висцеральная брюшина (п=29) 80,6 63,8
Таблица 14. Сравнительный анализ выживаемости без прогрессирования в зависимости от назначения химиотерапии
I Химиотерапия I 5-летняя выживаемость, % I 10-летняя выживаемость, % 1 Р 1
Не проводилась (n=256) 95,2 89,1 <0,001
Проводилась (n=149) 83,1 67,8
дение химиотерапии. Для того чтобы определить, какие факторы имеют независимое прогностическое значение, был выполнен многофакторный регрессионный анализ Кокса. Из данного анализа следует, что наличие остаточной опухоли по париетальной и висцеральной брюшине (не малый таз, а вся брюшная полость) является единственным независимым негативным прогностическим фактором в отношении ВБП, увеличивая риск прогрессирования в 12,6 раза (HR=12,6, 95% доверительный интервал 1,5-102,9; р=0,018).
Практические рекомендации по диагностике и лечению больных с пограничными опухолями яичников
Установление диагноза СПОЯ требует тщательного морфологического исследования как на этапе подготовки стеклопрепаратов, так и на этапе интерпретации гистологической картины. Гипердиагностика влечет за собой необоснованно завышенные объемы хирургических вмешательств и, как следствие, хирургической кастрации, проведение неэффективной химиотерапии, тяжелых социальных проблем. Гиподиагностика, не обнаруживающая фокусов рака Low grade на фоне СПОЯ, напротив, может приводить к драмати-
Функция дожития
ОБ
—гл Функция дожития —I— Цензурированные
Рис. 3. Общая выживаемость больных серозными пограничными опухолями яичников
ческому исходу больных, которым проводятся ультраконсервативные операции. Поэтому основным условием успеха при лечении СПОЯ является присутствие квалифицированных морфологов, специализирующихся в области опухолей яичников.
Диагностика
У 16-37% больных заболевание протекает бессимптомно.
Диагностика включает:
■ сбор анамнеза, изучение клинических симптомов
(боли внизу живота, увеличение живота, пальпируемая опухоль в брюшной полости, нарушение менструального цикла, бесплодие);
■ физикальное, в том числе гинекологическое исследование;
■ биохимический и общеклинический анализы крови, анализ мочи;
■ определение уровня опухолевых маркеров: СА-125, НЕ-4, РЭА, СА-19,9;
■ рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
■ УЗИ (абдоминальное и трансвагинальное);
■ обследование желудочно-кишечного тракта (эзо-фагогастродуоденоскопия, колоноскопия или ир-ригоскопия).
Лечение
Стандартный метод лечения больных с ПОЯ — хирургический. В настоящее время доказано, что химиотерапия при лечении ПОЯ неэффективна, поэтому не рекомендуется ее проведение ни при одной стадии заболевания.
Основным требованием к лечению больных с ПОЯ является высокая квалификация морфолога, специализирующегося на опухолях яичников.
1.1. Пациенткам репродуктивного периода, заинтересованным в сохранении репродуктивной и гормональной функции яичника
!А и К стадии (в том числе микропапиллярный вариант)
Рекомендованы органосохраняющие операции в объеме резекции опухолево измененного яичника (в пределах здоровых тканей) или односторонней аднексэктомии (если опухоль заполняет большую часть яичника). Интраопера-ционное исследование краев резекции поможет определить радикальность операции.
Доступ: лапаротомия, лапароскопия.
!В стадия
Допустимо выполнение резекции опухолево измененных яичников в пределах здоровых тканей. При резекции яичника/яичников целесообразно интраоперационное гистологическое исследование краев резекции.
Доступ: лапаротомия, лапароскопия.
Пограничная опухоль единственного яичника
Допустимо выполнение резекции опухолево измененного яичника в пределах здоровых тканей. При резекции яичника/яичников целесообразно интраоперационное гистологическое исследование краев резекции.
Биопсия/клиновидная резекция контралатерального яичника при отсутствии в нем видимой патологии не показана. При отсутствии здоровой ткани в яичнике/яичниках показана одно-/двусторонняя аднексэктомия, экстирпация матки с придатками.
Хирургический доступ: лапаротомия, лапароскопия. Лапароскопические операции должны выполняться квалифицированными лапароскопическими хирургами.
Хирургическое стадирование подразумевает резекцию большого сальника, биопсию брюшины, взятие смывов с брюшной полости. Подвздошная и парааор-тальная лимфодиссекция не показана. Хирургическое стадирование выполняют всем больным.
Несерозные типы пограничных опухолей яичников являются преимущественно односторонними и встречаются при I стадии заболевания. Больным с муцинозными, эндо-метриоидными и другими ПОЯ выполняют аднексэктомию на стороне поражения, хирургическое стадирование без лимфодиссекции. При двустороннем поражении — резекция яичников/аднексэктомия/экстирпация матки с придатками.
При МПОЯ рекомендовано внимательно осмотреть аппендикс. При макроскопически определяемой патологии аппендикса рекомендовано выполнить аппендэктомию.
ПА-ША стадии серозные пограничные опухоли
яичников
Больным, заинтересованным в сохранении репродуктивной и гормональной функции яичника, можно выполнять органосохраняющие операции в объеме резекции яичника/ яичников, аднексэктомии, при невозможности сохранения ткани яичников рекомендована одно-/двусторонняя аднексэктомия, экстирпация матки с придатками. Удаление большого сальника, биопсию брюшины, взятие смывов с брюшной полости выполняют всем больным.
Больным, не заинтересованным в сохранении репродуктивной и гормональной функции яичника, рекомендована экстирпация матки с придатками.
ШВ-ШС стадии (за исключением случаев диссеми-нации опухоли по париетальной и висцеральной брюшине брюшной полости)
Больным, не заинтересованным в сохранении репродуктивной и гормональной функции яичника, рекомендована экстирпация матки с придатками, хирургическое стадирование без лимфодиссекции.
Больным, заинтересованным в сохранении репродуктивной и гормональной функции яичника: при видимом распространенном опухолевом процессе рекомендовано направить пациентку в профильную клинику, онкологический институт, онкологический центр, где возможно выполнение органосохраняющих операций с удалением видимых узлов с брюшины (мелкие импланты в малом тазу и диафрагме не требуют обязательного иссечения).
Экстирпацию большого сальника, биопсия брюшины, взятие смывов с брюшной полости выполняют всем больным.
1.2. Пациенткам, достигшим менопаузы
IA-IIIA стадии: стандартным объемом хирургического лечения является экстирпация матки с придатками или двусторонняя аднексэктомия, хирургическое стадирование без лимфодиссекции. Однако, если больной была выполнена односторонняя аднексэктомия или резекция яичника и при плановом гистологическом исследовании установлена пограничная опухоль, можно не выполнять повторную операцию для экстирпации матки с оставшимися придатками, если при УЗИ или КТ/МРТ отсутствуют данные об остаточной опухоли в брюшной полости, малом тазу или оставшемся яичнике.
Доступ: лапаротомия, лапароскопия.
IIIB-IIIC стадии: экстирпация матки с придатками, удаление видимых узлов с брюшины (мелкие импланты в малом тазу и диафрагме не требуют обязательного иссечения).
Экстирпация большого сальника, биопсия брюшины, взятие смывов с брюшной полости показаны всем больным.
Если первичное хирургическое лечение проведено без удаления неизмененного большого сальника, рекомендовано наблюдение (УЗИ брюшной полости, малого таза, СА-125, НЕ-4).
При отсутствии признаков опухоли в большом сальнике, брюшной полости, яичнике/яичниках рекомендовано динамическое наблюдение.
При наличии признаков опухоли в яичнике, опухолевых узлов по брюшине, в большом сальнике — хирургическое лечение в объеме резекции/аднексэктомии/ экстирпации матки с придатками (в зависимости от степени поражения яичников), удаление большого сальника, удаление видимых узлов брюшной полости.
Если операция была неоптимальной с остаточной опухолью и после планового гистологического исследования определен инвазивный тип имплантов, возможен один из следующих вариантов лечения:
■ наблюдение;
■ релапаротомия, перитонэктомия.
2. Микропапиллярный вариант серозной пограничной опухоли яичника
В связи с высокой вероятностью инвазивных имплантов, если первая операция выполнена без стадирования, целесообразны релапаротомия, удаление большого сальника, биопсия брюшины, взятие смывов с брюшной полости.
3. Инвазивный рак low grade в диссеминатах
Показана оптимальная циторедуктивная операция
с дальнейшей химиотерапией в соответствии с рекомендациями по лечению рака яичников.
4. Лечение рецидивов серозных пограничных опухолей яичников
4.1. Рецидив в яичнике/яичниках
Рецидив в яичнике/яичниках возникает в 35-50% наблюдений. Повторные операции не ухудшают показатели общей выживаемости.
У больных репродуктивного возраста (при желании сохранить фертильность) рекомендуется ререзекция яичника/яичников с интраоперационным гистологическим исследованием краев резекции; при отсутствии здоровой ткани яичника: аднексэктомия, экстирпация матки с придатками.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
У больных менопаузального периода рекомендуется ад-нексэктомия/экстирпация матки с придатками.
Доступ
В случае выполнения ререзекции оптимальным доступом является лапаротомия. Лапароскопический доступ может применяться высококвалифицированным лапароскопическим хирургом.
Аднексэктомия, экстирпация матки с придатками могут быть выполнены с помощью лапароскопии, лапаротомии.
Если первоначально большой сальник не был удален, следует удалить большой сальник, выполнить биопсию брюшины.
4.2. Рецидив экстрагонадный/экстрагенитальный
Рецидив за пределами яичника/яичников (экстрагонадный, экстрагенитальный) встречается в 8-15% наблюдений и может быть локальным, мультифокальным.
Показано хирургическое лечение в объеме удаления рецидивных опухолевых узлов. У больных с изолированным
экстрагонадным рецидивом (без опухолевого поражения яичника/яичников) после органосохраняющего хирургического лечения на первом этапе резекция яичника/яичников, аднексэктомия, экстирпация матки с придатками не показаны.
Повторные рецидивы требуют повторных хирургических вмешательств в объеме оптимальной циторедукции.
5. Наблюдение
■ Наблюдение гинеколога, сбор анамнеза и жалоб, маркеры в соответствии с вариантом опухоли (СА-125, НЕ-4, СА-19,9, РЭА) 1 раз в 4 мес в течение первых 5 лет, далее 1 раз в 6 мес в течение 25 лет.
■ УЗИ органов малого таза — каждые 3-6 мес в течение первых 5 лет, далее 1 раз в 6-12 мес в течение 25 лет.
■ КТ, МРТ органов малого таза и брюшной полости по показаниям.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, Россия: Давыдова Ирина Юрьевна (Davydova Irina Yu.) — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения комбинированных и лучевых методов лечения онкогинекологических заболеваний E-mail: davydova06@maiL.ru
Кузнецов Виктор Васильевич (Kuznetsov Victor V.) — доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник отделения комбинированных и лучевых методов лечения онкогинекологических заболеваний E-mail: oncogyn@ronc.ru
Карселадзе Аполлон Иродионович (Karseladze Apollon I.) — доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела патологической анатомии опухолей человека
Мещерякова Людмила Александровна (Meshcheryakova Lyudmila A.) — доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отделения комбинированных и лучевых методов лечения онкогинекологических заболеваний E-mail: 2010am@mail.ru
ЛИТЕРАТУРА
1. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекодогии. СПб. : Фолиант, 2002. 542 с.
2. Acs G. Serous and mucinous borderline (low malignant potential) tumors of the ovary // Am. J. Clin. Pathol. 2005. Vol. 123, suppl. P. 13-57.
3. Gotlieb W.H., Chetrit A., Menczer J. et al. Demographic and genetic characteristics of patients with borderline ovarian tumors as compared to early stage invasive ovarian cancer // Gynecol. Oncol. 2005. Vol. 97, N 3. Р. 780-783.
4. Lodhi S., Najam S., Pervez S. DNA ploidy analysis of borderline epithelial ovarian tumours // J. Pak. Med. Assoc. 2000. Vol. 50, N 10. P. 349-351.
5. Lu K.H., Cramer D.W., Muto M.G. et al. A population-based study of BRCA1 and BRCA2mutations in Jewish women with epithelial ovarian cancer // Obstet. Gynecol. 1999. Vol. 93, N 1. Р. 34-37.
6. Riman T., Dickman P.W., Nilsson S. et al. Risk factors for epithelial borderline ovarian tumors: result of a Swedish case — control study // Gynecol. Oncol. 2001. Vol. 83, N 3. P. 575-585.
7. Scully R.E., Young R.H., Clement P.B. Tumor like lesions // Tumors of the Ovary and Maldeveloped Gonads, Fallopian Tube and Broad Ligament. Washington : Armed Forces Institute of Pathology, 1998. P. 443-444.
8. Shim S.H., Kim S.N., Jung P.S. et al. Impact of surgical staging on prognosis in patients with borderline ovarian tumours: a meta-analysis // Eur. J. Cancer. 2016. Vol. 54. P. 84-95.
9. Silva E.G., Kurman R.J., Russell P., Scully R.E. Symposium: ovarian tumors of borderline malignancy // Int. J. Gynecol. Pathol. 1996. Vol. 15, N 4. P. 281-302.
10. Губина О.В. Особенности клинического течения и лечения пограничных опухолей яичников : дис. … канд. мед. наук. М., 1995. 78 с.
11. Ayhan A., Akarin R., Develioglu O. et al. Borderline epithelial ovarian tumors // Aust. N. Z. J. Obstet. Gynecol. 1991. Vol. 31, N 2. P. 174-176.
12. Goldman T.L., Chalas E., Chumas J. et al. Management of borderline tumors of the ovary // South. Med. J. 1993. Vol. 86, N 4. P. 423-425.
13. Jimenez A.M., Miralles Pi R.M., Sanchez A.E. et al. Ovarian tumors of low malignant potential (borderline). A retrospective study of 31 cases // Eur. J. Gynaecol. Oncol. 1994. Vol. 15, N 4. P. 300-304.
14. Welander C.E. What do CA-125 and other antigens tell us about ovarian cancer biology? // Acta Obstet. Gynecol. Scand. 1992. Vol. 155, suppl. P. 85-93.
15. Гус А.И. Ультразвуковая диагностика предраковых состояний и ранних форм серозного рака яичников // Материалы Российского симпозиума с международным участием «Скрининг и новые подходы к лечению начального гинекологического рака» (Новгород, 23-24 июня 1994 г.). СПб., 1994. С. 33-34.
16. de Souza N.M., O’Neill R., Mclndoe G.A. et al. Borderline tumors of the ovary: CT and MRI features and tumor markers in differentiation from stage I disease // AJR Am. J. Roentgenol. 2005. Vol. 184, N 3. P. 999-1003.
17. Давыдова И.Ю., Кузнецов В.В., Карселадзе А.И., Мещерякова Л.А. Пограничные опухоли яичников: вопросы химиотерапии и прогноза // Опухоли женской репродукт. системы. 2015. Т. 11, № 3. С. 72-75.
18. Новикова Е.Г., Шевчук А.С., Завалишина Л.Э. Некоторые аспекты органосохраняющего лечения пограничных опухолей яичников // Рос. онкол. журн. 2010. № 4. С. 15-20.
19. Heintz A.P., Odicino F., Maisonneuve P. et al. Carcinoma of the ovary. FIGO 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer // Int. J. Gynaecol. Obstet. 2006. Vol. 95, suppl. 1. P. 161-192.
20. Vasconcelos I. Management of borderline ovarian tumors -state of the art // Uterus Ovary. 2015. Vol. 2. P. 1-6. doi: 10.14800/ uo.885.
21. Vasconcelos I., de Sousa Mendes M. Conservative surgery in ovarian borderline tumours: a meta-analysis with emphasis on recurrence risk // Eur. J. Cancer. 2015. Vol. 51, N 5. P. 620-631.
22. Глазунов М.Ф. Опухоли яичников (морфология, гистогенез, вопросы патогенеза). Л. : Медгиз, 1961. 336 с.
23. Железнов Б.И. Вопросы дифференциальной гистологической диагностики доброкачественных, пролиферирующих (пограничных) опухолей и ранних формах злокачественных опухолей яичников. М., 1984. С. 50-53.
24. Карселадзе А.И. К морфологии муцинозных пограничных опухолей яичников // Арх. пат. 1989. Т. 51, № 5. С. 40-46.
25. Hogg R., Scurry J., Kim S.N. et al. Microinvasion links ovarian serous borderline tumor and grade 1 invasive carcinoma // Gynecol. Oncol. 2007. Vol. 106, N 1. P. 44-51.
26. Leitao M.M. Micropapillary pattern in newly diagnosed borderline tumors of the ovary: what’s in a name? // Oncologist. 2011. Vol. 16, N 2. P. 133-135.
27. Longacre T.A., Kempson R.L., Hendrickson M.R. Well-differentiated serous neoplasms of the ovary // Pathology (Phila.). 1993. Vol. 1, N 2. P. 255-306.
28. Morice P., Camatte S., Wicart-Poque F. et al. Results of conservative management of epithelial malignant and borderline ovarian tumours // Hum. Reprod. Update. 2003. Vol. 9, N 2. P. 185-192.
29. Morice P., Uzan C., Fauvet R. et al. Borderline ovarian tumour: pathological diagnostic dilemma and risk factor for invasive or lethal recurrence // Lancet Oncol. 2012. Vol. 13, N 3. P. 103-115.
30. Silva E.G., Gershenson D.M., Malpica A., Deavers M. The recurrence and the overall survival rates of ovarian serous border line neoplasms with noninvasive implants is time dependent // Am. J. Surg. Pathol. 2006. Vol. 30, N 11. P. 1367-1371.
31. McKenney J.K., Balzer B.L., Longacre T.A. Patterns of stromal invasion in ovarian serous tumors of low malignant potential (borderline tumors): a reevaluation of the concept of stromal microinvasion // Am. J. Surg. Pathol. 2006. Vol. 30, N 10. P. 1209-1221.
32. Mooney J., Silva E., Tornos C., Gershenson D. et al. Unusual features of serous neoplasms of low malignant potential during pregnancy // Gynecol. Oncol. 1997. Vol. 65, N 1. P. 30-35.
33. Katzenstein A.L., Mazur M.T., Morgan T.E., Kao M.S. Proliferative serous tumors of the ovary. Histologic features and prognosis // Am. J. Surg. Pathol. 1978. Vol. 2, N 4. P. 339-355.
34. Kurman R.J., Carcanqiu M.L., Herrington C.S., Young R.H. WHO Classification of Tumours of Female Reproductive Organs. 4th ed. Lyon : IARS, 2014. 307 p.
35. Fadare O. Recent developments on the significance and pathogenesis of lymph node involvement in ovarian serous tumors of low malignant potential (borderline tumors) // Int. J. Gynecol. Cancer. 2009. Vol. 19, N 1. P. 103-108.
36. Kempson R.L., Hendrickson M.R. Ovarian serous borderline tumors: the citadel defended // Hum. Pathol. 2000. Vol. 31, N 5. P. 525-526.
37. Shih le M., Kurman R.J. Ovarian tumorigenesis: a proposed model based on morphological and molecular genetic analysis // Am. J. Pathol.
2004. Vol. 164, N 5. P. 1511-1518.
38. Shih le M., Kurman R.J. Molecular pathogenesis of ovarian borderline tumors: new insights and old challenges // Clin. Cancer Res.
2005. Vol. 11, N 20. P. 7273-7279.
39. Burks R.T., Sherman M.E., Kurman R.J. Micropapillary serous carcinoma of the ovary. A distinctive low-grade carcinoma related to serous borderline tumors // Am. J. Surg. Pathol. 1996. Vol. 20, N 11. P. 13191330.
40. Seidman J.D., Kurman R.J. Ovarian serous borderline tumors: a critical review of the literature with emphasis on prognostic indicators // Hum. Pathol. 2000. Vol. 31, N 5. P. 539-557.
41. Du Bois A., Ewald-Riegler N., du Bois O., Harter P. Borderline tumors of the ovary — a systematic review // Geburtsh. Frauenheilk. 2009. Vol. 69. P. 807-833.
42. Trope C., Davidson B., Paulsen T. et al. Diagnosis and treatment of borderline ovarian neoplasms «the state of the art» // Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2009. Vol. 30, N 5. P. 471-482.
43. Fauvet R., Poncelet C., Boccara J. et al. Fertility after conservative treatment for borderline ovarian tumors: a French multicenter study // Fertil. Steril. 2005. Vol. 83, N 2. P. 284-290.
44. Tinelli F., Tinelli R., La Grotta F. et al. Pregnancy outcome and recurrence after conservative laparoscopic surgery for borderline ovarian tumors // Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2007. Vol. 86, N 1. P. 81-87.
45. Hauptmann S., Friedrich K., Redline R., Avril S. Ovarian borderline tumors in the 2014 WHO classification: evolving concepts and diagnostic criteria // Virchows Arch. 2017. Vol. 470, N 2. P. 125-142.
46. Kleppe M., Bruls J., van Gorp T., Massuger L. et al. Mucinous borderline tumours of the ovary and the appendix: a retrospective study and overview of the literature // Gynecol. Oncol. 2014. Vol. 133, N 2. P. 155-158.
REFERENCES
1. Bokhman Ya.V. Guide oncogynecology. Saint Petersburg: Foliant, 2002: 542 p. (in Russian)
2. Acs G. Serous and mucinous borderline (low malignant potential) tumors of the ovary. Am J Clin Pathol. 2005; 123 (suppl): 13-57.
3. Gotlieb W.H., Chetrit A., Menczer J., et al. Demographic and genetic characteristics of patients with borderline ovarian tumors as compared to early stage invasive ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2005; 97 (3): 780-3.
4. Lodhi S., Najam S., Pervez S. DNA ploidy analysis of borderline epithelial ovarian tumours. J Pak Med Assoc. 2000; 50 (10): 349-51.
5. Lu K.H., Cramer D.W., Muto M.G., et al. A population-based study of BRCA1 and BRCA2mutations in Jewish women with epithelial ovarian cancer. Obstet Gynecol. 1999; 93 (1): 34-7.
6. Riman T., Dickman P.W., Nilsson S., et al. Risk factors for epithelial borderline ovarian tumors: result of a Swedish case — control study. Gynecol Oncol. 2001; 83 (3): 575-85.
7. Scully R.E., Young R.H., Clement P.B. Tumor like lesions. In: Tumors of the Ovary and Maldeveloped Gonads, Fallopian Tube and Broad Ligament. Washington: Armed Forces Institute of Pathology, 1998: 443-4.
8. Shim S.H., Kim S.N., Jung P.S., et al. Impact of surgical staging on prognosis in patients with borderline ovarian tumours: a meta-analysis. Eur J Cancer. 2016; 54: 84-95.
9. Silva E.G., Kurman R.J., Russell P., Scully R.E. Symposium: ovarian tumors of borderline malignancy. Int J Gynecol Pathol. 1996; 15 (4): 281302.
10. Gubina O.V. Features of clinical course and treatment of borderline ovarian tumors. Diss. Moscow, 1995. 78 p. (in Russian)
11. Ayhan A., Akarin R., Develioglu O., et al. Borderline epithelial ovarian tumors. Aust N Z J Obstet. Gynecol. 1991; 31 (2): 174-6.
12. Goldman T.L., Chalas E., Chumas J., et al. Management of borderline tumors of the ovary. South Med J. 1993; 86 (4): 423-5.
13. Jimenez A.M., Miralles Pi R.M., Sanchez A.E., et al. Ovarian tumors of low malignant potential (borderline). A retrospective study of 31 cases. Eur J Gynaecol Oncol. 1994; 15 (4): 300-4.
14. Welander C.E. What do CA-125 and other antigens tell us about ovarian cancer biology? Acta Obstet Gynecol. Scand. 1992; 155 (suppl): 85-93.
15. Gus A.I. Ultrasonic diagnosis of precancerous conditions and early forms of serous ovarian cancer. Materials of the Russian Symposium with international participation «Screening and new approaches to the treatment of initial gynecological cancer» (Novgorod, June 23-24, 1994). St. Petersburg., 1994: 33-34. (in Russian)
16. de Souza N.M., O’Neill R., Mclndoe G.A., et al. Borderline tumors of the ovary: CT and MRI features and tumor markers in differentiation from stage I disease. AJR Am J Roentgenol. 2005; 184 (3): 999-1003.
17. Davydova I.Yu., Kuznetsov V.V., Karseladze A.I., Meshcheryakova L.A. Borderline ovarian tumors: the issues of chemotherapy and prognosis. Opukholi zhenskoy reproduktivnoy sistemy [Tumors of Female Reproductive System]. 2015; 11 (3): 72-5. (in Russian)
18. Novikova E.G., Shevchuk A.S., Zavalishina L.E. Some aspects of borderline ovarian tumors organ-preserving treatment. Rossiyskiy onko-logicheskiy zhurnal [Russian Oncology Journal]. 2010 (4): 15-20. (in Russian)
19. Heintz A.P., Odicino F., Maisonneuve P., et al. Carcinoma of the ovary. FIGO 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer. Int J Gynaecol. Obstet. 2006; 95 (suppl 1): 161-92.
20. Vasconcelos I. Management of borderline ovarian tumors — state of the art. Uterus Ovary. 2015; 2: 1-6. doi: 10.14800/uo.885.
21. Vasconcelos I., de Sousa Mendes M. Conservative surgery in ovarian borderline tumours: a meta-analysis with emphasis on recurrence risk. Eur J Cancer. 2015; 51 (5): 620-31.
22. Glazunov M.F. Ovarian tumors (morphology, histogenesis, pathogenesis issues). Leningrad: Medgiz, 1961: 336 p. (in Russian)
23. Zheleznov B.I. Issues of differential histological diagnosis of benign, proliferating (borderline) tumors and early forms of ovarian malignant tumors. Moscow, 1984: 50-3. (in Russian)
24. Karseladze A.I. To the morphology of mucinous borderline ovarian tumors Arkhiv patologii [Archive of Pathology]. 1989; 51 (5): 40-6. (in Russian)
25. Hogg R., Scurry J., Kim S.N., et al. Microinvasion links ovarian serous borderline tumor and grade 1 invasive carcinoma. Gynecol Oncol. 2007; 106 (1): 44-51.
26. Leitao M.M. Micropapillary pattern in newly diagnosed borderline tumors of the ovary: what’s in a name? Oncologist. 2011; 16 (2): 133-5.
27. Longacre T.A., Kempson R.L., Hendrickson M.R. Well-differentiated serous neoplasms of the ovary. Pathology (Phila). 1993; 1 (2): 255-306.
28. Morice P., Camatte S., Wicart-Poque F., et al. Results of conservative management of epithelial malignant and borderline ovarian tumours. Hum Reprod Update. 2003; 9 (2): 185-92.
29. Morice P., Uzan C., Fauvet R., et al. Borderline ovarian tumour: pathological diagnostic dilemma and risk factor for invasive or lethal recurrence. Lancet Oncol. 2012; 13 (3): 103-15.
30. Silva E.G., Gershenson D.M., Malpica A., Deavers M. The recurrence and the overall survival rates of ovarian serous border line neoplasms with noninvasive implants is time dependent. Am J Surg Pathol. 2006; 30 (11): 1367-71.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
31. McKenney J.K., Balzer B.L., Longacre T.A. Patterns of stromal invasion in ovarian serous tumors of low malignant potential (borderline tumors): a reevaluation of the concept of stromal microinvasion. Am J Surg Pathol. 2006; 30 (10): 1209-21.
32. Mooney J., Silva E., Tornos C., Gershenson D., et al. Unusual features of serous neoplasms of low malignant potential during pregnancy. Gynecol Oncol. 1997; 65 (1): 30-5.
33. Katzenstein A.L., Mazur M.T., Morgan T.E., Kao M.S. Proliferative serous tumors of the ovary. Histologic features and prognosis. Am J Surg Pathol. 1978; 2 (4): 339-55.
34. Kurman R.J., Carcanqiu M.L., Herrington C.S., Young R.H. WHO Classification of Tumours of Female Reproductive Organs. 4th ed. Lyon : IARS, 2014: 307 p.
35. Fadare O. Recent developments on the significance and pathogenesis of lymph node involvement in ovarian serous tumors of low malignant potential (borderline tumors). Int J Gynecol Cancer. 2009; 19 (1): 103-8.
36. Kempson R.L., Hendrickson M.R. Ovarian serous borderline tumors: the citadel defended. Hum Pathol. 2000; 31 (5): 525-6.
37. Shih le M., Kurman R.J. Ovarian tumorigenesis: a proposed model based on morphological and molecular genetic analysis. Am J Pathol. 2004; 164 (5): 1511-8.
38. Shih le M., Kurman R.J. Molecular pathogenesis of ovarian borderline tumors: new insights and old challenges. Clin Cancer Res. 2005; 11 (20): 7273-9.
39. Burks R.T., Sherman M.E., Kurman R.J. Micropapillary serous carcinoma of the ovary. A distinctive low-grade carcinoma related to serous borderline tumors. Am J Surg Pathol. 1996; 20 (11): 1319-30.
40. Seidman J.D., Kurman R.J. Ovarian serous borderline tumors: a critical review of the literature with emphasis on prognostic indicators. Hum Pathol. 2000; 31 (5): 539-57.
41. Du Bois A., Ewald-Riegler N., du Bois O., Harter P. Borderline tumors of the ovary — a systematic review. Geburtsh Frauenheilk. 2009; 69: 807-33.
42. Trope C., Davidson B., Paulsen T., et al. Diagnosis and treatment of borderline ovarian neoplasms «the state of the art». Eur J Gynaecol. Oncol. 2009; 30 (5): 471-82.
43. Fauvet R., Poncelet C., Boccara J., et al. Fertility after conservative treatment for borderline ovarian tumors: a French multicenter study. Fertil Steril. 2005; 83 (2): 284-90.
44. Tinelli F., Tinelli R., La Grotta F., et al. Pregnancy outcome and recurrence after conservative laparoscopic surgery for borderline ovarian tumors. Acta Obstet Gynecol. Scand. 2007; 86 (1): 81-7.
45. Hauptmann S., Friedrich K., Redline R., Avril S. Ovarian borderline tumors in the 2014 WHO classification: evolving concepts and diagnostic criteria. Virchows Arch. 2017; 470 (2): 125-42.
46. Kleppe M., Bruls J., van Gorp T., Massuger L., et al. Mucinous borderline tumours of the ovary and the appendix: a retrospective study and overview of the literature. Gynecol Oncol. 2014; 133 (2): 155-8.
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Серозные пограничные опухоли яичников: клинико-морфологические особенности, лечение, прогноз»
Введение
Актуальность темы
Пограничные опухоли яичников (ПОЯ) — это новообразования с атипичной пролиферацией эпителия без деструктивной стромальной инвазии. Пограничные опухоли имеют общие морфологические признаки с аденокарциномой яичников. Как и для рака яичников, для пограничных опухолей характерна ядерная атипия, митотическая активность, ветвящиеся железистые комплексы, папиллярные разрастания. Основным отличием пограничных опухолей от злокачественных новообразований является отсутствие стромальной инвазии, за исключением случаев микроинвазии, что и определяет хороший прогноз заболевания (Scully R., et al., 1999; Shih Ie. et al., 2005; Lodhi S, et al., 2000; Shim S. et al., 2016).
Пограничные опухоли (или атипически пролиферирующие опухоли) составляют 15-20% всех злокачественных эпителиальных новообразований яичников. Заболеваемость пограничными опухолями яичников за последние десятилетия растет. С 1960 по 2005 год наблюдается рост заболеваемости с 1,0 до 5,3 на 100 000 женщин в год, кроме того, наблюдается увеличение распределения пограничных опухолей среди злокачественных опухолей яичников с 5 до 25% (Skirnisdottir I. et al., 2008).
К наиболее распространенным разновидностям пограничных опухолей яичников относятся серозные (53,3%) и муцинозные (42,5%) варианты, а пограничные эндометриоидные, светлоклеточные и опухоли Бреннера встречаются достаточно редко (Acs G. et al., 2005). Современная гистологическая классификация 2014 года выделяет серозные пограничные опухоли двух вариантов: серозную атипически пролиферирующую опухоль (серозную пограничную опухоль обычного типа и серозную пограничную опухоль микропапиллярного типа (неинвазивную микропапиллярную low grade серозную карциному). Характерные для серозных пограничных опухолей импланты, ранее подразделяющиеся на неинвазивные и инвазивные, в настоящее время стали обозначаться просто имплантами, так как инвазивные импланты стали относиться
к проявлениям карциномы низкой степени злокачественности (Kurman R.J., et al., 2014).
По-сравнению со злокачественными эпителиальными новообразованиями яичников, пограничные опухоли, как правило, выявляются на ранних стадиях заболевания и чаще обнаруживаются у женщин пременопаузального периода. Больные пограничными опухолями яичников в целом молодые женщины, на 10 -20 лет моложе больных раком яичников со средним возрастом 45 лет (Gotlieb W. et al., 2005; Acs G., et al., 2005; Swanton A. et al., 2007).
Характерных симптомов для пограничных опухолей яичников нет. У 16% больных заболевание протекает бессимптомно, у остальных заболевших наблюдается болезненность внизу живота или пальпируемая опухоль в брюшной полости (Webb P. et al., 2004). У женщин репродуктивного периода довольно часто встречается бесплодие (Taylor H. et al., 1929).
Специфических серологических критериев для пограничных опухолей яичников не существует. Тем не менее, если сравнить уровень СА-125 у здоровых женщин и пациенток, больных пограничными опухолями, то у последних значения превышают норму в два раза (Welander C. et al., 1992).
Ультразвуковое исследование с большей долей вероятности позволяет заподозрить пограничную опухоль яичников, так как способно составить объективное представление о строении опухоли и визуализировать папиллярные разрастания до 0,2 см. Метод является высокоинформативным, позволяющим выявить предопухолевые изменения в яичнике и ранние формы злокачественного процесса (Гус А. с соавт., 1994).
В настоящее время лечение пограничных опухолей яичников стало менее агрессивным и более консервативным. Бесспорно, что основным методом лечения ПОЯ является хирургический. Однако объемы операции должны рассматриваться в зависимости от возраста пациентки. На сегодняшний день установлено, что у трети больных ПОЯ моложе 40 лет возможно выполнение органосохраняющих операций. У больных, не желающих сохранить репродуктивную функцию, и женщин менопаузального периода стандартным объемом является экстирпация
матки с придатками, удаление большого сальника, множественная биопсия брюшины (Kurman R. et al., 2014).
Некоторые исследования поддерживают возможность выполнения органосохраняющих операций при II-III стадиях ПОЯ, при этом демонстрируются десятки случаев беременностей и родов у этой категории больных (Uzan C. et al., 2010).
Рецидивы при I стадии ПОЯ происходят в 15% наблюдений, хотя это не влияет на 5-летнюю выживаемость, которая соответствует 100%. Что касается 10-летней выживаемости, то она снижается до 90-95% в зависимости от гистологических особенностей опухоли. При II-IV стадиях ПОЯ зависимость прямопропорциональная — с повышением стадии заболевания прогноз становится менее благоприятным (Gershenson D. et al., 1998; Crispens M. et al., 2002).
До сих пор многие клиницисты настаивают на проведении адъювантной химиотерапии в количестве 3-4 курсов [8; 10; 19; 23; 24; 108]. Некоторые авторы считают, что при I стадии ПОЯ химиотерапия нецелесообразна, а при распространенных стадиях может быть оправдана, особенно при наличии инвазивных имплантов. Хотя по некоторым данным, даже при инвазивных имплантах роль химиотерапии остается спорной [30; 42; 67; 76; 114] (Barakat R. et al., 1994; Carter J. et al., 1993; Jimenez A. et al., 1994; Mangili G. et al., 1993; Trope C. et al., 1993). В более поздние годы в литературе все чаще стали встречаться публикации о неэффективности химиотерапии (Fox H., 1993; Trope C. et al., 1993; Yong R. et al., 1990).
Современные авторы убеждены, что в отличие от серозной высокодифференцированной аденокарциномы яичников, серозные пограничные опухоли не чувствительны ни к лучевой ни к химиотерапии (Schenker I. et al., 1985; Cadron I. et al., 2007; Vasconcelos I. et al., 2015).
На сегодняшний день в России подходы к лечению больных пограничными опухолями яичников в большинстве случаев остаются агрессивными по сравнению с общемировыми стандартами. Большинство больных попадают в
гинекологические стационары с диагнозом кистомы яичников, где выполняются операции в объеме аднексэктомии лапароскопическим или открытым доступом. При получении гистологического заключения, больным серозными пограничными опухолями яичников независимо от возраста и данных клинического обследования врачи рекомендуют повторную операцию в объеме резекции противоположного яичника или экстирпации матки с придатками, удаления большого сальника и дальнейшую химиотерапию. Подобный подход не оправдан и часто неприемлем, особенно когда речь идет о молодых нерожавших пациентках. Неэффективная химиотерапия усугубляет степень ошибочных подходов в лечении пограничных опухолей.
Другим важным вопросом является высокая частота морфологических ошибок в сторону гипердиагностики, что так же ведет к ошибочной тактике лечения больных пограничными опухолями яичников.
Существующие до сих пор в клинической онкологии противоречия в вопросах диагностики и тактики лечения серозных пограничных опухолей яичников (СПОЯ) требуют глубокого анализа накопленных наблюдений.
Мировой опыт и более чем 30-летний опыт лечения больных в РОНЦ им. Н.Н. Блохина позволяет пересмотреть основные принципы диагностики и разработать современную тактику лечения как первичных больных серозными пограничными опухолями яичников, так и пациенток с рецидивами СПОЯ. Работ, посвященных тщательному изучению различных вариантов СПОЯ, клинико-морфологических особенностей серозных пограничных опухолей, методов лечения и прогноза до настоящего времени в Российской Федерации не проводилось. Отсутствие стандартных рекомендаций по лечению серозных пограничных опухолей в Российской Федерации зачастую приводит к неадекватным хирургическим вмешательствам. А ошибочная тактика лечения — к инвалидизации и лишению молодых пациенток репродуктивной функции, развитию посткастрационного синдрома, снижению продолжительности жизни, тяжелым социальным последствиям.
Как известно, в настоящее время заболеваемость пограничными опухолями яичников возросла. Учитывая молодой возраст пациенток, проблемы репродукции и гормональной функции выходят на первый план. Появление высокотехнологических возможностей диагностики (УЗКТ, КТ, МРТ, высокопрофессиональное морфологическое исследование), позволяют распознать пограничную опухоль и дифференцировать со злокачественными новообразованиями. Тщательный анализ большого проспективного и ретроспективного клинического материала позволяют разработать правильную тактику ведения больных в зависимости от различных прогностических факторов (стадии заболевания, морфологического варианта опухоли), выявить показания к органосохраняющим операциям и детально изучить роль химиотерапии у больных серозными пограничными опухолями яичников. Для разработки путей сохранения репродуктивной функции будет изучен опыт выполнения многократных органосохраняющих хирургических вмешательств (повторные резекции яичников) и даны рекомендации. Анализ большого клинического материала по лечению рецидивов серозных пограничных опухолей, а также уникального материала по лечению диссеминированных форм СПОЯ, рака low grade яичников на фоне СПОЯ позволят сформулировать оптимальные принципы их лечения.
На основании выше изложенного можно заключить, что изучение проблемы пограничных опухолей яичников является своевременной и актуальной.
Цель исследования
Оптимизация лечения больных серозными пограничными опухолями яичников.
Задачи исследования
1. Изучить особенности клинического течения, рецидивирования и прогрессирования различных вариантов серозных пограничных опухолей яичников.
2. Определить показания к органосохраняющему лечению больных серозными пограничными опухолями.
3. Оценить эффективность химиотерапии при распространенных стадиях и рецидивах серозных пограничных опухолей яичников.
4. Выявить клинико-морфологические факторы прогноза у больных серозными пограничными опухолями яичников.
5. Проанализировать отдаленные результаты хирургического и комбинированного лечения больных серозными пограничными опухолями яичников в зависимости от стадии заболевания, объемов хирургических вмешательств и выявленных факторов прогноза.
6. Разработать и внедрить научно-обоснованные практические рекомендации по диагностике и адекватному лечению больных серозными пограничными опухолями яичников.
Научная новизна
Впервые в РФ на большом клиническом материале изучены клинико-морфологические особенности СПОЯ.
Впервые разработаны и научно обоснованы показания к органосохраняющему лечению больных СПОЯ, в том числе и к выполнению ультраконсервативных операций, повторных циторедуктивных и стадирующих операций.
Рекомендованы оптимальные объемы хирургических вмешательств.
Впервые доказана и научно обоснована нецелесообразность проведения химиотерапии больным серозными пограничными опухолями яичников.
Впервые на большом клиническом материале проведен одно- и многофакторный анализ прогноза серозных пограничных опухолей яичников.
Впервые проведен анализ лечения больных с рецидивами СПОЯ и даны практические рекомендации.
Впервые доказана целесообразность и эффективность выполнения неоднократных хирургических вмешательств при рецидивах СПОЯ.
Впервые изучен уникальный клинический материал по лечению больных диссеминированными формами серозных пограничных опухолей яичников, раком low grade на фоне СПОЯ, изучены особенности клинического течения и прогноз.
Впервые в РФ разработаны, научно обоснованы и внедрены практические рекомендации по диагностике и лечению серозных пограничных опухолей яичников.
Ретроспективное и проспективное исследование позволило разработать показания к органосохраняющему лечению и отказаться от повторных операций с целью стадирования после так называемых «нерадикальных» операций. Окончательно установлена неэффективность химиотерапии у больных серозными пограничными опухолями яичников. Благодаря тщательному повторному изучению гистологических препаратов были выявлены случаи, в которых определялись фокусы рака low grade на фоне серозной пограничной опухоли, что объясняло более агрессивное течение. И, напротив, отвергнуты диагнозы рака яичников, установленного как в других лечебных учреждениях, так и в РОНЦ им. Н.Н. Блохина, что позволило скорректировать тактику лечения, отказаться от повторной операции и химиотерапии. Данный подход явился особенно важным для молодых нерожавших женщин, желающих сохранить фертильность.
Практическая значимость
Полученные в результате проведенного исследования данные позволили выстроить алгоритм диагностики и лечения первичных СПОЯ, гонадных и экстрагонадных рецидивов СПОЯ.
Разработаны и внедрены оптимальные объемы хирургического лечения при распространенных формах СПОЯ.
Впервые научно доказана нецелесообразность химиотерапии при СПОЯ независимо от стадии заболевания.
Разработаны практические рекомендации по тактике лечения микропапиллярного варианта СПОЯ и рака low grade яичников.
Продемонстрирована возможность и безопасность деторождения после лечения как первичных СПОЯ, так и рецидивов СПОЯ, также продемонстрирована возможность и безопасность реализации детородной функции в межрецидивный период у больных СПОЯ.
Выделены наиболее значимые факторы прогноза безрецидивной и общей выживаемости у больных СПОЯ.
Продемонстрировано разнообразие вариантов СПОЯ, дана подробная характеристика их с позиций морфологии.
Сформулированы наиболее значимые клинико-морфологические ошибки, определяющие негативный прогноз заболевания и разработаны пути их профилактики.
12 Глава I ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Пограничные опухоли яичников (ПОЯ) составляют 15-20% всех злокачественных эпителиальных новообразований яичников и представляют собой атипичную пролиферацию эпителия без деструктивной стромальной инвазии [25]. Несмотря на то, что пограничные опухоли имеют общие морфологические признаки с аденокарциномой яичников — ядерную атипию, митотическую активность, ветвящиеся железистые комплексы, папиллярные разрастания, основным отличием их является отсутствие стромальной инвазии (за исключением случаев микроинвазии). Отсутствие стромальной инвазии и определяет благоприятный прогноз заболевания при пограничных опухолях яичников [83; 110; 117; 118].
Некоторые морфологи считают пограничные опухоли доброкачественными и пользуются термином «атипично пролиферирующая» опухоль, в то время как другие настаивают, что именно обозначение «пограничная» опухоль точно отражает уникальный характер этих опухолей. В четвертом выпуске классификации Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) рекомендуется применять оба термина [75]. Серозные пограничные опухоли яичников (СПОЯ) по биологическим свойствам отличаются от пограничных опухолей другого гистогенеза, кроме того, они могут трансформироваться в серозную карциному, что не свойственно другим вариантам пограничных опухолей. Пограничные опухоли яичника не серозного гистогенеза в большинстве случаев не распространяются за пределы яичника, не рецидивируют, если полностью удалены, и протекают доброкачественно, так как многолетние наблюдения не подтвердили их злокачественного течения.
Большинство пограничных опухолей яичников представлены серозным гистотипом, который составляет 53,3% всех ПОЯ. Далее по частоте следуют муцинозные опухоли (42,5%) и менее распространенные формы — эндометриоидные, светлоклеточные, опухоли Бреннера (4,2%). Если проводить
аналогию со злокачественными эпителиальными опухолями яичников, то, так же как и при пограничных опухолях, наиболее распростаненным гистотипом при раке яичников является серозный. Однако, в отличие от пограничных опухолей, при которых доля муцинозных опухолей составляет 42,5%, доля муцинозного рака при раке яичников не превышает 3% [3; 135].
Обозначение «условно злокачественные опухоли» впервые был применен Говардом Тейлором в 1929 году. Автор отметил, что, в отличие от злокачественных аналогов, «условно злокачественные опухоли» отличались относительно благоприятным течением и хорошим прогнозом даже при распространенных стадиях заболевания [132].
Термин «пограничные опухоли яичников» (ПОЯ) был признан еще в 1961 году, но в отдельную нозологическую группу, выделенную Международной Организацией Акушеров и Гинекологов (FIGO), пограничные опухоли были внесены лишь в 1973 году [5; 11; 22; 56].
С годами развивалось понимание в биологии и морфологии серозных пограничных опухолей яичников. Развитие знаний об этой нозологической единице можно разделить на несколько этапов:
• в 1961 году FIGO принят термин «серозные опухоли низкого потенциала злокачественности (low grade)» к которому стали относиться опухоли с активной пролиферацией эпителия и клеточной атипией без стромальной инвазии;
• в 1973 году ВОЗ была выделена группа опухолей пограничной злокачественности (карциномы или low grade) или пограничные опухоли. Экстраовариальное распространение пограничных опухолей стало обозначаться имплантами, а не метастазами;
• в 1980 году импланты подразделили на инвазивные и неинвазивные, которые стали считать основным фактором прогноза;
• в 1990-2000 годах выделен микропапиллярный вариант серозных пограничных опухолей, который характеризовался менее благоприятным течением. Серозные пограничные опухоли яичников
подразделили на атипически пролиферирующие серозные опухоли и неинвазивную микропапиллярную (low grade) серозную карциному;
• в 2014 году введено понятие — инвазивная серозная low grade карцинома, связывающее пограничные опухоли и рак яичников.
В 2014 году раздел «Эпителиальные опухоли» в гистологической классификации ВОЗ году был значительно изменен. В предыдущей классификации ВОЗ 2003 года серозные пограничные опухоли подразделялись на папиллярную кистозную опухоль, поверхностную папиллярную опухоль, аденофиброму и цистаденофиброму.
А в 2014 году гистологическая классификация ВОЗ эпителиальных опухолей яичников претерпела изменения. Группа серозных пограничных опухолей яичников сегодня включает:
— серозную атипически пролиферирующую опухоль (серозную пограничную опухоль обычного типа (поверхностную или кистозную);
— серозную пограничную опухоль микропапиллярного типа (неинвазивную микропапиллярную low grade серозную карциному).
Злокачественные серозные эпителиальные опухоли яичников также стали подразделяться на 2 группы:
— серозную карциному низкой степени злокачественности (low grade);
— серозную карциному высокой степени злокачественности (high grade).
Изменилась классификация «имплантов» при пограничных опухолях. В
отличие от предыдущего издания, где они подразделялись на «инвазивные и неинвазивные», принято решение обозначать их просто «имплантами», в связи с тем, что инвазивные импланты стали считаться признаком карциномы низкой степени злокачественности [75].
Пограничные опухоли яичников (рисунки 1, 2) встречаются достаточно редко, заболеваемость составляет 1,5-2 человека на 100000 населения в год [58].
Рисунок 1 — Серозная Рисунок 2 — На разрезе
пограничная опухоль яичника солидные и кистозные компоненты с
папиллярными разрастаниями
По-сравнению со злокачественными эпителиальными новообразованиями яичников, пограничные опухоли, как правило, определяются на ранних стадиях заболевания и чаще обнаруживаются у пациенток пременопаузального возраста. Около 30% заболевших приходится на молодой возраст — женщин до 40 лет. Средний возраст больных пограничными опухолями на 10-20 лет ниже по сравнению с больными раком яичников и составляет 43-53 года [25; 61; 129].
По мнению Sherman M. et al., причиной повышения заболеваемости пограничными опухолями в перименопаузальном периоде, по-видимому, являются пременопаузальные изменения в организме женщины. Гормональные изменения в перименопаузальном периоде, возможно, являются этиологическим фактором пограничных опухолей яичников. В отличие от пограничных опухолей, при которых с началом менопаузы роста заболеваемости не наблюдается, а отмечается плато, при раке яичников с возрастом вплоть до девятого десятка лет наблюдается рост кривой заболеваемости. Этиологическим фактором роста заболеваемости раком яичников, возможно, является кумуляция на протяжении жизни повреждений ДНК. Исходя из этого, можно предположить, что возрастные различия в заболеваемости пограничными опухолями и раком яичников имеют различную этиологию [114].
Заболеваемость пограничными опухолями яичников в мире растет. По данным авторов шведского исследования за период 1960-2005 гг. заболеваемость
ПОЯ выросла с 1,0 до 5,3 на 100 000 женщин в год. Кроме того, отмечается рост распределения ПОЯ среди злокачественных опухолей яичников с 5-10% до 25% [127].
Основываясь на немногочисленных исследованиях, было показано, что факторы риска для пограничных опухолей и рака яичников в большинстве своем совпадают [65; 105].
Исключением является фактор приема контрацептивных препаратов, снижающих в популяции заболеваемость рака яичников. При пограничных опухолях данный фактор влияния на заболеваемость не оказывает [114].
Одним из факторов риска развития пограничных опухолей яичников является бесплодие, в то время как беременность и лактация, напротив, обладают протективным действием [61; 86; 105].
Пограничные опухоли яичников не имеют специфической клинической симптоматики. Больные могут предъявлять жалобы на увеличение живота, боли различной интенсивности, ациклические кровянистые выделения. Иногда опухоли могут проявляться бессимтомными образованиями в малом тазу, самостоятельно обнаруживаемые пациентами. Довольно часто пограничные опухоли протекают бессимптомно и обнаруживаются при хирургических вмешательствах, связанных с иными причинами [27; 60; 70].
На дооперационном этапе с точностью установить диагноз пограничной опухоли с помощью неинвазивных методом диагностики (УЗКТ, КТ, МРТ) можно в 29-69% в зависимости от квалификации специалиста и качества диагностической техники [53; 128; 150].
Допплеровское картирование (цветовая характеристика солидных участков, оценка скорости кровотока в опухоли) увеличивает число правильных диагнозов всего лишь на 5% [141].
Отечественные ученые внесли большой вклад в изучение пограничных опухолей яичников. Результаты морфологического, количественных методов исследования (цитофотометрического, цитокариометрического исследования полового хроматина, митотической активности, электронно-микроскопического
исследования) пограничных опухолей яичников продемонстрировали широкое разнообразие строения пограничных опухолей даже в пределах одного гистотипа. В одних случаях они напоминают простую цистаденому, в других наблюдается активная пролиферация, которая может привести либо к последующей малигнизации либо торпидному неизменному промежуточному состоянию. В настоящее время электронная микроскопия не применяется, так как считается методом, дискриминирующим пограничные опухоли от рака яичников [15; 23; 55].
О разнообразии пролиферирующих серозных опухолей свидетельствуют более ранние работы Серапионовой Г.А. (1967) и Винокурова В.Л. (1983), в которых было показано, что они не являются однородной группой ни по клиническим, ни по гистологическим признакам [4; 21].
Отмечая особенности морфологического строения серозных пограничных опухолей, следует отметить, что в ряде случаев у больных с двусторонними СПОЯ опухоль в одном яичнике по степени выраженности пролиферации может заметно уступать новообразованию в другом яичнике, что может служить примером возможности асинхронного развития таких опухолей. Также, на основании наблюдений, где СПОЯ могут быть представлены в виде небольших зачатков, как бы отдельных гнезд, можно утверждать, что пограничные опухоли могут возникать de novo [7].
Установление диагноза пограничной опухоли яичника является прерогативой исключительно морфологического исследования, хотя и для него является непростой задачей. В 1983 году в Великобритании на панельном заседании морфологов, специализирующихся в области опухолей яичников, было установлено, что число расхождений диагнозов в определении степени дифференцировки опухоли достигало 20% [133].
В другом экспертном исследовании патологов, включающим 477 больных опухолями яичников, было показано, что 15% установленных аденокарцином яичников были реклассифицированы в пограничные опухоли, а 7% пограничных опухолей — в аденокарциномы [138].
Экспертиза морфологических заключений, проведенная в Великобритании с 1988 по 1997 год, показала, что в 42% случаев пограничные опухоли ошибочно трактовались как аденокарциномы [112].
Ошибки морфологической диагностики были выявлены в клинико-морфологическом исследовании, проведенном в 1980-2000 годах. Анализ выявил ошибки морфологической диагностики в 29% наблюдений, которые трактовались как рак яичников 1-11 стадии. Впоследствии диагнозы были реклассифицированы. Ошибочность диагноза была подтверждена высокой выживаемостью в группе больных, диагноз которых подвергся сомнению, так как смертность в этой группе составила 4,5%. В группе больных с истинной аденокарциномой смертность соответствовала 25,6% [80].
В отношении экстраовариального распространения СПОЯ оказалось, что конкретных, даже минимальных критериев для различия эндосальпингоза от неинвазивных имплантов, а также неинвазивных имплантов от инвазивных не существует. Поэтому они не могут подвергаться стандартизации и, соответственно, оценке количества морфологических ошибок. В целом, многоцентровые исследования в отношении ошибок диагностики и трактовки выживаемости, с периодами, включающими 20-30-летние наблюдения, показали, что прогноз при пограничных опухолях с имплантами на самом деле лучше, чем это трактуется в литературе [114].
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Давыдова, Ирина Юрьевна, 2018 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Антошечкина, Е.Т. Злокачественные опухоли яичников у молодых: дис. … д-ра мед. наук: 14.00.14 / Антошечкина Елена Тихоновна. — М., 1987. — 43 с.
2. Батталова, Г.Ю. Пограничные опухоли яичников (оптимизация методов лечения и медико-социальная реабилитация больных): дис. … д-ра мед. наук: 14.00.14 онкология 14.00.01 акушерство и гинекология / Батталова Г.Ю. — М., 2005. — С. 40-323.
3. Бохман, Я.В. Руководство по онкогинекологии / Я.В. Бохман. — СПб.: ООО Изд-во Фолиант, 2002. — 542 а
4. Винокуров, В.Л. Клинико-морфологические особенности пограничных эпителиальных опухолей яичников / В.Л. Винокуров, А.Е. Колосов, Л.Е. Юркова // Вопросы онкологии. — 1983. — Т. 29, № 9. — С. 73-78.
5. Глазунов, М.Ф. Опухоли яичников (Морфология, гистогенез, вопросы патогенеза) / М.Ф. Глазунов. — Л., Медгиз, 1961. — 336 с.
6. Григорова, Т.М. Диагностическая и лечебная тактика при ранних формах злокачественных опухолей яичников / Т.М. Григорова, Е.Е. Махова,
B.В. Баринов и др. — М., 1984. — С. 112-115.
7. Губина, О.В. Особенности клинического течения и лечения пограничных опухолей яичников: дис. канд. мед. наук: 14.00.14 / Губина Ольга Валентиновна. — М., 1995. — 78 с.
8. Гуло, Е.И. Возможности применения сберегательных операций у больных опухолями яичников молодого возраста / Е.И. Гуло, М.Е. Лившиц, Н.М. Айнбиндер // Материалы Российского симпозиума с международным участием «Скрининг и новые подходы к лечению начального гинекологического рака», г. Новгород, 23-24 июня 1994 г. — СПб., 1994. —
C. 61-62.
9. Гус, А.И. Ультразвуковая диагностика предраковых состояний и ранних форм серозного рака яичников / А.И. Гус // Материалы Российского
симпозиума с международным участием «Скрининг и новые подходы к лечению начального гинекологического рака», г. Новгород, 23-24 июня 1994 г. — СПб., 1994. — С. 33-34.
10. Давыдова, И.Ю. Пограничные опухоли яичников: вопросы химиотерапии и прогноза / И.Ю. Давыдова, В.В. Кузнецов, А.И. Карселадзе, Л.А. Мещерякова // Опухоли женской репродуктивной системы. — 2015. — Т. 11, № 3. — С. 72-75.
11. Железнов, Б.И. Вопросы дифференциальной гистологической диагностики доброкачественных, пролиферирующих (пограничных) опухолей и ранних формах злокачественных опухолей яичников / Б.И. Железнов. — М., 1984.
— С. 50-53.
12. Жорданиа, К.И. Оптимизация диагностики и лечения рака яичников: дис. д-ра мед. наук: 14.00.14, 14.00.15 / Жордания Кирилл Иосифович. — М., 1992.
— 153 с.
13. Карселадзе, А.И. К морфологии муцинозных пограничных опухолей яичников / А.И. Карселадзе // Архив патологии. — 1989. — Т. 51, № 5. — С. 40-46.
14. Карселадзе, А.И. К морфологии серозных пограничных опухолей яичников / А.И. Карселадзе // Архив патологии. — 1989. — Т. 51, № 3. — С. 28-34.
15. Карселадзе, А.И., Морфология эпителиальных опухолей яичника (вопросы морфологической семиотики, гисто- и морфогенеза): дис. …д-ра мед. наук: 14.00.14, 14.00.15 / Карселадзе Аполлон Иродионович. — М., 1989. — 376 с.
16. Карселадзе, А.И. Пограничные опухоли яичников (критерии гистологической диагностики прогноза и оценки терапевтического патоморфоза) / А.И. Карселадзе // Методические рекомендации. — М., 1989.
— 16 с.
17. Любченко, Л.Н. Наследственный рак молочной железы и яичников / Л.Н. Любченко, Е.И. Батенева, И.С. Абрамов и др. // Злокачественные опухоли. — 2013. — № 2. — С. 53-61.
18. Новикова, Е.Г. Пограничные опухоли яичников / Е.Г. Новикова, Г.Ю. Батталова. — М.: Медицинское информационное агентство, 2007. — 152 с.
19. Новикова, Е.Г. Некоторые аспекты органосохраняющего лечения пограничных опухолей яичников / Е.Г. Новикова, А.С. Шевчук, Л.Э. Завалишина // Российский онкологический журнал. — 2010. — № 4. — С. 15-20.
20. Паниченко, И.В. Клиническое значение генетических и количественных показателей клеток опухоли при раке яичников: дис. … д-ра мед. наук: 14.00.14 / Паниченко Игорь Валерианович. — 2006. — 250 с.
21. Серапионова, Г.Л. Клинико-морфологические сопоставления 103 больных с пролиферирующими цилиоэпителиальными кистами яичников / Г.Л. Серапионова // Современные вопросы онкологии. — Л., 1967. — С. 198-202.
22. Серов, С.Ф. Гистологическая классификация опухолей яичников / С.Ф. Серов, Э.У. Скалли в сотрудничестве с Л.Г. Собином и патологоанатомами 10 стран. — М.: Медицина, 1977 С ВОЗ. — 54 с. -(Международ. гистол. классиф. опухолей / ВОЗ; № 9).
23. Серов, С.Ф. Эпителиальные опухоли яичников / С.Ф. Серов, С.И. Иржанов, А.А. Бейсебаев. — Казахстан: Алма-Ата, 1991. — 169 с.
24. Тобилевич, В.П. Имплантаты трубного эпителия в брюшной полости и их судьба / В.П. Тобилевич; под ред. Н.Н. Петрова // Вопросы онкологии. Труды АМН СССР. — М., 1949. — Т. 1. — Вып. 1. — С. 250-253.
25. Acs, G. Serous and mucinous borderline (low malignant potential) tumors of the ovary / G. Acs //Am. J. Clin. Pathol. — 2005. — Vol. 123 (Suppl.). — P. 13-57.
26. Aslani, M. Serous papillary cystadenoma of borderline malignancy of broad ligament / M. Aslani, G.H. Ahn, R.E. Scully // Int. J. Gynecol. Pathol. — 1988. — Vol. 7, N 2. — P. 131-138.
27. Ayhan, A. Borderline epithelial ovarian tumors / A. Ayhan, R. Akarin, O. Develioglu et al. // Aust. N. Z. J. Obstet. Gynecol. — 1991. — Vol. 31, N 2.
— P. 174-176.
28. Bast, R.C. The biology of ovarian cancer: new opportunities for translation / R.C. Bast Jr, B. Hennessy, G.B. Mills // Nat. Rev. Cancer. — 2009. — Vol. 9, N 6. — P. 415-428.
29. Bell, D.A. Ovarian serous borderline tumors with stromal microinvasion: a report of 21 cases / D.A. Bell, R.E. Scully // Hum. Pathol. — 1990. — Vol. 21, N 4. — P. 397-403.
30. Boyd, C. Low-grade ovarian serous neoplasms (Low-grade serous carcinoma and serous borderline tumor) associated with high grade serous or undifferentiated carcinoma: Report of a series of cases of an unusual phenomenon / C. Boyd, W.G. McCluggage // Am. J. Surg. Pathol. — 2012. — Vol. 36, N 3. — P. 368375.
31. Burger, C.W. The management of borderline epithelial tumors of the ovary / C.W. Burger, H.M. Prinssen, J.P. Baak et al. // Int. J. Gynecol. Cancer. — 2000.
— Vol. 10, N 3. — P. 181-197.
32. Burks, R.T. Micropapillary serous carcinoma of the ovary. A distinctive low-grade carcinoma related to serous borderline tumors / R.T. Burks, M.E. Sherman, R.J. Kurman // Am. J. Surg. Pathol. — 1996. — Vol. 20, N 11. — P. 1319-1330.
33. Burmeister, R.E. Endosalpingosis of the peritoneum / R.E. Burmeister, R.E. Fecher, R.R. Franklin // Obstet. Gynecol. — 1969. — Vol. 34, N 3. — P. 310-318.
34. Cadron, I. Management of borderline ovarian neoplasms / I. Cadron, K. Leunen, T. Van Gorp et al. // J. Clin. Oncol. — 2007. — Vol. 25, N 20. — P. 2928-2937.
35. Caduff, R.F. Comparison of mutations of Ki-RAS and p53 immunoreactivity in borderline and malignant epithelial ovarian tumors / R.F. Caduff, S.M. Swoboda-Newman, A.W. Ferguson et al. // Am. J. Surg. Pathol. — 1999. — Vol. 23, N 3.
— P. 232-238.
36. Calderale, L. Tumori borderline dell ovario: Considerazioni su due casi clinici / L. Calderale, F. Dalle Nogare, G. Gonsales, R. Vitalini // G. Ital. Ostet. Ginecol. — 1994. — Vol. 16, N 2. — P. 89-92.
37. Camatte, S. Impact of surgical staging in patients with macroscopic ‘stage I’ ovarian borderline tumours: analysis of a continuous series of 101 cases / S. Camatte, P. Morice, A. Thoury et al. // Eur. J. Cancer. — 2004. — Vol. 40, N 12. — P. 1842-1849.
38. Colbert, N. Primary pseudo-ovarian peritoneal carcinosis. 4 cases / N. Colbert, V. Izrael, J. Raoul et al. // Presse Med. — 1985. — Vol. 14, N 13. — P. 725-727.
39. Collaborative Group on Epidemiological Studies of Ovarian Cancer. Ovarian cancer and oral contraceptives: Collaborative reanalysis of data from 45 epidemiological studies including 23,257 women with ovarian cancer and 87,303 controls / V. Beral, R. Doll, C. Hermon et al. // Lancet. — 2008. — Vol. 371, N 9609. — P. 303-314.
40. Crispens, M.A. Response and survival in patients with progressive or recurrent serous ovarian tumors of low malignant potential / M.A. Crispens, D. Bodurka, M. Deavers et al. // Obstet. Gynecol. — 2002. — Vol. 99, N 1. — P. 3-10.
41. Dallenbach-Hellweg, G. Atipical Endosalpingosis: a case report with consideration of the differential diagnosis of glandular subperitoneal inclusions / G. Dallenbach-Hellweg // Pathol. Res. Pract. — 1987. — Vol. 182, N 2. — P. 180-182.
42. de Nictolis, M. Serous borderline tumors of the ovary. A clinicopathologic, immuunohistochemical, and quantitative study of 44 cases / M. de Nictolis, R. Montironi, S. Tommasoni et al. // Cancer. — 1992. — Vol. 70, N 1. — P. 152160.
43. de Souza, N.M. Borderline tumors of the ovary: CT and MRI features and tumor markers in differentiation from stage I disease / N.M. de Souza, R. O’Neill, G.A. McIndoe et al. // Am. J. Roentgenol. — 2005. — Vol. 184, N 3. — P. 9991003.
44. Diaz-Padilla, I. Ovarian low-grade serous carcinoma: a comprehensive update / I. Diaz-Padilla, A.L. Malpica, L. Minig et al. ,// Gynecol. Oncol. — 2012. — Vol. 126, N 2. — P. 279-285.
45. Diebold, J. Interphase cytogenetic analysis of serous ovarian tumors of low malignant potential: comparison with serous cystadenomas and invasive serous carcinomas / J. Diebold, I. Deisenhofer, G.B. Baretton et al. // Lab. Invest. — 1996. — Vol. 75, N 4. — P. 473-485.
46. Diebold, J. K — ras mutations in ovarian and extraovarian lesions of serous tumors of borderline malignancy / J. Diebold, F. Seemuller, U. Lohrs // Lab. Invest. — 2003. — Vol. 83, N 2. — P. 251-258.
47. Dodson, M.K. Comparison of loss of heterozygosity patterns in invasive low grade and high grade epithelial ovarian carcinomas / M.K. Dodson, L.C. Hartmann, W.A. Cliby et al. // Cancer Res. — 1993. — Vol. 53, N 19. — P. 4456-4460.
48. Du Bois, A. Borderline tumors of the ovary — a systematic review / A. Du Bois, N. Ewald-Riegler, O. du Bois, P. Harter // Geburtsh. Frauenheilk. — 2009. — Vol. 69. — P. 807-833.
49. Fadare, O. Recent developments on the significance and pathogenesis of lymph node involvement in ovarian serous tumors of low malignant potential (borderline tumors) / O. Fadare // Int. J. Gynecol. Cancer. — 2009. — Vol. 19, N 1. — P. 103-108.
50. Fauvet, R. Fertility after conservative treatment for borderline ovarian tumors: a French multicenter study / R. Fauvet, C. Poncelet, J. Boccara et al. // Fertil. Steril. — 2005. — Vol. 83, N 2. — P. 284-290.
51. Feely, K.M. Precursor lesions of ovarian epithelial malignancy / K.M. Feely, M. Wells // Hystopathology. — 2001. — Vol. 38, N 2. — P. 87-95.
52. Fetissof, F. Tumeurs mucineuses retroperitoneales et pancreatique / F. Fetissof, M.P. Dubois, E. Legue et al. // Ann. Pathol. — 1985. — Vol. 5, N 1. — P. 53-57.
53. Fischerova, D. Ultrasound in diagnosis of new and borderline ovarian tumors / D. Fischerova, D. Franchi, A. Testa et al. // Ultrasound Obstet. Gynecol. — 2010. — Vol. 36, Suppl. 1. — Abstr. OC01.03.
54. Fort, M.G. Evidence for the efficacy of adjuvant therapy in epithelial ovarian tumors of low malignant potential / M.G. Fort, V.K. Pierce, P.E. Saigo et al. // Gynecol. Oncol. — 1989. — Vol. 31. — P. 269-272.
55. Fox, H. Pathology of early malignant change in the ovary / H. Fox // Int. J. Gynecol. Pathol. — 1993. — Vol. 12, N 2. — P. 153-155.
56. Gabi, E. Klinisch — pathologische Beziehung der potentiell malignen Kystadenome der Eierstocke / E. Gabi, B. Tottossy, I. Sugar // Zbl. Cynacol. — 1978. — Vol. 100, N 15. — P. 978-984.
57. Genadry, R. Primary, papillary peritoneal neoplasia / R. Genadry, S. Poliakoff, J. Rotmensch et al. // Obstet. Gynecol. — 1981. — Vol. 58, N 6. — P. 730-734.
58. Gershenson, D.M. Clinical management potential tumours of low malignancy /
D.M. Gershenson // Best. Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. — 2002. — Vol. 16, N 4. — P. 513-527.
59. Gershenson, D.M. Serous Ovarian Tumors of low malignant potential with peritoneal implants / D.M. Gershenson, E.G. Silvia // Cancer. — 1990. — Vol. 65, N 3. — P. 578-585.
60. Goldman, T.L. Management of borderline tumors of the ovary / T.L. Goldman,
E. Chalas, J. Chumas et al. // South. Med. J. — 1993. — Vol. 86, N 4. — P. 423425.
61. Gotlieb, W.H. Demographic and genetic characteristics of patients with borderline ovarian tumors as compared to early stage invasive ovarian cancer / W.H. Gotlieb, A. Chetrit, J. Menczer et al. // Gynecol. Oncol. — 2005. — Vol. 97, N 3. — P. 780-783.
62. Gu, J. Molecular evidence for the independent origin of extra- ovarian papillary serous tumors of low malignant potential / J. Gu, L.M. Roth, C. Younger et al. // J. Natl. Cancer Inst. — 2001. — Vol. 93, N 15. — P. 1147-1152.
63. Haas, C.J. In serous ovarian neoplasms the frequency of Ki-ras mutations correlates with their malignant potential / C.J. Haas, J. Diebold, A. Hirshmann et al. // Virchows Arch. — 1999. — Vol. 434, N 2. — P. 117-120.
64. Haas, C.J. Microsatellite analysis in serous tumors of the ovary / C.J. Haas, J. Diebold, A. Hirshmann et al. // Int. J. Gynecol. Pathol. — 1999. — Vol. 18, N 2. — P. 158-162.
65. Harris, R. Collaborative Ovarian Cancer Group: Characteristics relating to ovarian cancer risk: Collaborative analysis of 12 U. S. case — control studies / R. Harris, A.S. Whittemore, J. Itnyre // Am. J. Epidemiol. — 1992. — Vol. 136, N 10. — P. 1204-1211.
66. Heintz, A.P. Carcinoma of the ovary. FIGO 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer / A.P. Heintz, F. Odicino, Maisonneuve P. et al. // Int. J. Gynaecol. Obstet. — 2006. — Vol. 95, Suppl. 1. — P.161-192.
67. Hochster, H. Intra-abdominal carcinomatosis with histologically normal ovaries / H. Hochster, J.C. Wernz, F.M. Muggia // Cancer Treat. Rep. — 1984. — Vol. 68, N 6. — P. 931-932.
68. Hogg, R. Microinvasion links ovarian serous borderline tumor and grade 1 invasivecarcinoma / R. Hogg, J. Scurry, S.N. Kim et al. // Gynecol. Oncol. — 2007. — Vol. 106, N 1. — P. 44-51.
69. Jenkins, R.B. Cytogenetic studies of epithelial ovarian carcinoma / R.B. Jenkins, D. Bartelt, P. Stalboerger et al. // Cancer Genet. Cytogenet. — 1993. — Vol. 71, N 1. — P. 76-86.
70. Jimenez, A.M. Ovarian tumors of low malignant potential (borderline). A retrospective study of 31 cases / A.M. Jimenez, R.M. Miralles Pi, A.E. Sanchez et al. // Eur. J. Gynaec. Oncol. — 1994. — Vol. 15, N 4. — P. 300-304.
71. Jones, M.B. Borderline ovarian tumors: current concepts for prognostic factors and clinical management / M.B. Jones // Clin. Obstet. Gynecol. — 2006. — Vol. 49, N 3. — P. 517-525.
72. Kaern, J. A retrospective study of 370 borderline tumors of the ovary treated at the Norwegian Radium Hospital from 1970 to 1982. A review of
clinicopathologic features and treatment modalities / J. Kaern, C.G. Trope, V.M. Abeler // Cancer. — 1993. — Vol. 71, N 5. — P. 1810-1820.
73. Katzenstein, A.L. Proliferative serous tumors of the ovary. Histologic features and prognosis / A.L. Katzenstein, M.T. Mazur, T.E. Morgan, M.S. Kao // Am. J. Surg. Pathol. — 1978. — Vol. 2, N 4. — P. 339-355.
74. Kempson, R.L. Ovarian serous borderline tumors: the citadel defended / R.L. Kempson, M.R. Hendrickson // Hum. Pathol. — 2000. — Vol. 31, N 5. — P. 525-526.
75. Kurman, R.J. WHO Classificaihion of Tumours of Female Reproductive Organs / R.J. Kurman, M.L. Carcanqiu, C.S. Herrington, R.H. Young. Fourth. Edition. — IARS: Lyon, 2014. — 307 p.
76. Kurman, R.J. Pathogenesis of ovarian cancer: lessons from morphology and molecular biology and their clinical implications / R.J. Kurman, IeM. Shih // Int. J. Gynecol. Pathol. — 2008. — Vol. 27, N 2. — P. 151-160.
77. Kurman, R.J. The behavior of serous tumors of low malignant potential: are they ever malignant? / R.J. Kurman, C.L. Trimble // Int. J. Gynecol. Pathol. — 1993. — Vol. 12, N 2. — P. 120-127.
78. Leake, J.F. Long-term follow-up of serous ovarian tumors of low malignant potential / J.F. Leake, J.L. Currie, N.B. Rosenshein, J.D. Woodruff .// Gynecol. Oncol. — 1992. — Vol. 47, N 2. — P. 150-158.
79. Leary, A. Adjuvant platinum — based chemotherapy for borderline serous ovarian tumors with invasive implants / A. Leary, M.C. Petrella, P. Pautier et al. // Gynecol. Oncol. — 2014. — Vol. 132, N 1. — P. 23-27.
80. Leitao, M.M. Clinicopathologic analysis of early — stage sporadic ovarian carcinoma / M.M. Leitao, J. Boyd, A. Hummer et al. // Am. J. Surg. Pathol. — 2004. — Vol. 28, N 2. — P. 147-159.
81. Leitao, M.M. Micropapillary Pattern in Newly Diagnosed Borderline Tumors of the Ovary: What’s in a Name? / M.M. Leitao Jr // Oncol. — 2011. — Vol. 16, N 2. — P. 133-135.
82. Lin, P.S. The current status of surgical staging of ovarian serous borderline tumors / P.S. Lin, D.M. Gershenson, M.W. Bevers et al. // Cancer. — 1999. — Vol. 85, N 4. — P. 905-911.
83. Lodhi, S. DNA ploidy analysis of borderline epithelial ovarian tumours / S. Lodhi, S. Najam, S. Pervez // J. Pak. Med. Assoc. — 2000. — Vol. 50, N 10.
— P. 349-351.
84. Longacre, T.A. Ovarian serous tumors of low malignant potential (borderline tumors): outcome-based study of 276 patients with long-term (> or =5-year) follow-up / T.A. Longacre, J.K. McKenney, H.D. Tazelaar et al. // Am. J. Surg. Pathol. — 2005. — Vol. 29, N 6. — P. 707-723.
85. Longacre, T.A. Well-differentiated serous neoplasms of the ovary / T.A. Longacre, R.L. Kempson, M.R. Hendrickson // Pathology (Phila). — 1993.
— Vol. 1, N 2. — P. 255-306.
86. Lu, K.H. A population-based study of BRCA1 and BRCA2mutations in Jewish women with epithelial ovarian cancer / K.H. Lu, D.W. Cramer, M.G. Muto et al. // Obstet. Gynecol. — 1999. — Vol. 93, N 1. — P. 34-37.
87. May, T. Low malignant potential tumors with micropapillary features are molecularly similar to low-grade serous carcinoma of the ovary / T. May, C. Virtanen, M. Sharma et al. // Gynecol. Oncol. — 2010. — Vol. 117, N 1. — P. 9-17.
88. McKenney, J.K. Patterns of stromal invasion in ovarian serous tumors of low malignant potential (borderline tumors): a reevaluation of the concept of stromal microinvasion / J.K. McKenney, B.L. Balzer, T.A. Longacre // Am. J. Surg. Pathol. — 2006. — Vol. 30, N 10. — P. 1209-1221.
89. Montzavines, T. Pregnancy after in vitro fertilization in a patient with borderline tumor of the ovary / T. Montzavines, F. Dimitriadou, K. Papadias et al. // Eur. J. Gynecol. Oncol. — 1992. — Vol. 13, N 4. — P. 355-356.
90. Montzavinos, T. Five years’ follow-up in two patients with borderline tumours of the ovary hyperstimulated by gonadotrophin therapy for in-vitro fertilization
/ T. Montzavinos, N. Kanakas, C. Genatas et al. // Hum. Reprod. — 1994. — Vol. 9, N 11. — P. 2032-2033.
91. Mooney, J. Unusual features of serous neoplasms of low malignant potential during pregnancy / J. Mooney, E. Silva, C. Tornos, D. Gershenson et al. // Gynecol. Oncol. — 1997. — Vol. 65, N 1. — P. 30-35.
92. Morice, P. Borderline tumours of the ovary and fertility / P. Morice // Eur. J. Cancer. — 2006. — Vol. 42, N 2. — P. 149-158.
93. Morice, P. Prognostic factors for patients with advanced stage serous borderline tumours ofthe ovary / P. Morice, S. Camatte, A. Rey et al. // Ann. Oncol. — 2003. — Vol. 14, N 4. — P. 592-598.
94. Morice, P. Results of conservative management of epithelial malignant and borderline ovarian tumours / P. Morice, S. Camatte, F. Wicart-Poque et al. // Hum. Reprod. Update. — 2003. — Vol. 9, N 2. — P. 185-192.
95. Morice, P. Case 2. Spontaneous regression of peritoneal implants in borderline ovarian tumor after salpingo-oophorectomy / P. Morice, A. Thoury, J.C. Sabourin et al. // J. Clin. Oncol. — 2003. — Vol. 21, N 18. — P. 3536-3538.
96. Morice, P. Borderline ovarian tumour: Pathological diagnostic dilemma and risk factor for invasive or lethal recurrence / P. Morice, C. Uzan, R. Fauvet et al. // Lancet Oncol. — 2012. — Vol. 13, N 3. — P. 103-115.
97. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) // Version 4.2017 — November 9, 2017.
98. Ochiai, K. A retrospective study of 1069 epithelial borderline malignancies of the ovary treated in Japan / K. Ochiai, H. Shinozaki, A. Takada // Proc. Ann. Meeting Am. Soc. Clin. Oncol., 1998. — 17:A1429.
99. O’Neill, C.J. An immunohistochemical comparison between low-grade and highgrade ovarian serous carcinomas: significantly higher expression of p53, MIB1, BCL2, HER-2/neu, and C-KIT in high-grade neoplasms / C.J. O’Neill, M.T. Deavers, A. Malpica et al. // Am. J. Surg. Pathol. — 2005. — Vol. 29, N 8. — P. 1034-1041.
100. Ortiz, B.H. Second primary or recurrence? Comparative patterns of p53 and K-ras mutations suggest that serous borderline ovarian tumors and subsequent serous carcinomas are unrelated tumors / B.H. Ortiz, M. Ailawadi, C. Colitti et al. // Cancer Res. — 2001. — Vol. 61, N 19. — P. 7264-7267.
101. Park, J.Y. Micropapillary pattern in serous borderline ovarian tumors: Does it matter? / J.Y. Park, D.Y. Kim, J.H. Kim et al. // Gynecol. Oncol. — 2011. — Vol. 123, N 3. — P. 511-516.
102. Prade, M. Benign glandular inclusions in inguinal and abdominopelvic limph nodes in gynecologic pathology / M. Prade, A. Spatz, P. Duvillard et al. // Ann. Pathol. — 1993. — Vol. 13, N 5. — P. 317-323.
103. Prat, J. Serous borderline tumors of the ovary: a long-term follow-up study of 137 cases, including 18 with a micropapillary pattern and 20 with microinvasion / J. Prat, M. De Nictolis // Am. J. Surg. Pathol. — 2002. — Vol. 26, N 9. — P. 1111-1128.
104. Rice, L.M. Preoperative serum CA — 125 levels in borderline tumors of the ovary / L.M. Rice, J.M. Lage, R.C. Berkowitz et al. // Gynecol. Oncol. — 1992. — Vol. 46, N 2. — P. 226-229.
105. Riman, T. Risk factors for epithelial borderline ovarian tumors: Result of a Swidish case — control study / T. Riman, P.W. Dickman, S. Nilsson et al. // Gynecol. Oncol. — 2001. — Vol. 83, N 3. — P. 575-585.
106. Russell, P. The pathological assessment of ovarian neoplasms. II: The proliferating ‘epithelial’ tumours / P. Russell // Pathology. — 1979. — Vol. 11, N 2. — P. 251-282.
107. Sangoi, A. Lymphatic Vascyular Invaqsion in Ovarian Serous Tumors of Low Malignant Potential with Stromal Microinvasion. A case Study / A. Sangoi, J.K. McKenney, S.S. Dadras, T.A. Longacre_// Am. J. Surg. Pathol. — 2008. — Vol. 32, N 2. — P. 261-268.
108. Schenker, I.G. Epidemiology of ovarian tumors / I.G. Schenker, S.M. Joseph // Ovarialtumoren f Hrsg. Von g. Daklenbach. Hell. Weg. Berlin: Heidelberg. — New York, 1985. — P. 306.
109. Schuldenfrei, R. Disseminated endosalpingosis associated with bilateral papillary serous cystadenocarcinoma of the ovaries / R. Schuldenfrei, N.A. Janovski // Am. J. Obstet. Gynecol. — 1962. — Vol. 84, N 3. — P. 382-389.
110. Scully, R.E. Tumor like lesions / R.E. Scully, R.H. Young, P.B. Clement // Tumors of the overy and maldeveloped gonads, fallopian tube and broad ligament. — Washington: Armed Forces Institute of Pathology, 1998. — P. 443-444.
111. Seidman, J.D. Ovarian serous borderline tumors: a critical review of the literature with emphasis on prognostic indicators / J.D. Seidman, R.J. Kurman // Hum. Pathol. — 2000. — Vol. 31, N 5. — P. 539-557.
112. Sengupta, P.S. Requirement for expert histopathological assessment of ovarian cancer and borderline tumors / P.S. Sengupta, J.H. Shanks, C.H. Buckley et al. // Br. J. Cancer. — 2000. — Vol. 82, N 4. — P. 760-762.
113. Serov, S.F. International Histological Classification of tumors. No 9. Histological typing of ovarian tumors / S.F. Serov, R.E. Scully, L.H. Sobin. — Geneva: WHO, 1973. — P. 1-56.
114. Sherman, M.E. Survival among women with ovarian borderline tumors and carcinoma: A population — based analysis / M.E. Sherman, P.J. Mink, R.E. Curtis et al. // Cancer. — 2004. — Vol. 100. — P. 1045-1052.
115. Sherman, M.E. Current challenges and opportunities for research on borderline ovarian tumors / M.E. Sherman, J. Berman, M.J. Birrer et al. // Hum. Pathol. — 2004. — Vol. 35, N 8. — P. 961-970.
116. Shih, IeM. Ovarian tumorigenesis: a proposed model based on morphological and molecular genetic analysis / IeM. Shih, R.J. Kurman // Am. J. Pathol. — 2004. — Vol. 164, N 5. — P. 1511-1518.
117. Shih, IeM. Molecular pathogenesis of ovarian borderline tumors: new insights and old challenges / IeM. Shih, R.J. Kurman // Clin. Cancer Res. — 2005. — Vol. 11, N 20. — P. 7273-7279.
118. Shim, S.H. Impact of surgical staging on prognosis in patients with borderline ovarian tumours: a meta-analysis / S.H. Shim, S.N. Kim, P.S. Jung et al. // Eur. J. Cancer. — 2016. — Vol. 54. — P. 84-95.
119. Shiraki, M. Ovarian serous borderline epithelial tumors with multiple retroperitoneal nodal involvement: metastasis or malignant transformation of epithelial glandular inclusions? / M. Shiraki, C.N. Otis, J.T. Donovan, J.I. Powell // Gynecol. Oncol. — 1992. — Vol. 46, N 2. — P. 255-258.
120. Sieben, N.L. Molecular genetic evidence for monoclonal origin of bilateral ovarian serous borderline tumors / N.L. Sieben, S.M. Kolkman-Uljee, A.M. Flanagan et al. // Am. J. Pathol. — 2003. — Vol. 162, N 4. — P. 10951101.
121. Sieben, N.L. Differential gene expression in ovarian tumors reveals Dusp 4 and Serpina 5 as key regulators for benign behavior of serous borderline tumors / N.L. Sieben, J. Oosting, A.M. Flanagan et al. // J. Clin. Oncol. — 2005. — Vol. 23, N 29. — P. 7257-7264.
122. Silva, E.G. Symposium: ovarian tumors of borderline malignancy / E.G. Silva, R.J. Kurman, P. Russell, R.E. Scully // Int. J. Gynecol. Pathol. — 1996. — Vol. 15, N 4. — P. 281-302.
123. Silva, E.G. The recurrence and the overall survival rates of ovarian serous borderlineneoplasms with noninvasive implants is time dependent / E.G. Silva, D.M. Gershenson, A. Malpica, M. Deavers // Am. J. Surg. Pathol. — 2006. — Vol. 30, N 11. — P. 1367-1371.
124. Silverberg, S. Borderline ovarian tumors: consensus, controversy, and continuing challenges / S. Silverberg // Pathol. Case. Rev. — 2006. — Vol. 11. — P. 9-17.
125. Singer, G. Patterns of p53 mutations separate ovarian serous borderline tumors and low- and high-grade carcinomas and provide support for a new model of ovarian carcinogenesis: a mutational analysis with immunohistochemical correlation / G. Singer, R. Stöhr, L. Cope et al. // Am. J. Surg. Pathol. — 2005. — Vol. 29, N 2. — P. 218-224.
126. Singer, G. Mutations in BRAF characterize the development of low grade ovarian serous carcinoma / G. Singer, R. Oldt 3rd, Y. Cohen et al. // J. Natl. Cancer Inst. — 2003. — Vol. 95, N 6. — P. 484-486.
127. Skirnisdottir, I. Borderline ovarian tumors in Sweden 1960-2005: trends in incidence and age at diagnosis compared to ovarian cancer / I. Skirnisdottir, H. Garmo, E. Wilander, L. Holmberg // Int. J. Cancer. — 2008. — Vol. 123, N 8. — P. 1897-1901.
128. Sokalska, A. Diagnostic accuracy of transvaginal ultrasound examination for assigning a specific diagnosis to adnexal masses / A. Sokalska, D. Timmerman, A.C. Testa et al. // Ultrasound Obstet. Gynecol. — 2009. — Vol. 34, N 4. — P. 462-470.
129. Swanton, A. Pregnancy rates after conservative treatment for borderline ovaran tumors: a systematic rewiew / A. Swanton, C.R. Bankhead, S. Kehoe // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. — 2007. — Vol. 135, N 1. — P. 3-7.
130. Tabachnik B. Borderline ovarian tumors, clinical aspects (meeting abstract) / B. Tabachnik // Gynecological Oncology, 8th International Meeting of the European Society of Gynecological Oncology. June 9-12, 1993, Barcelona, Spain, 1993.
131. Tavassoli, F.A. Pathology and genetics of tumors of the breast and female genital organs / A. Tavassoli, P. Devilee // World Health Organization classification of tumors. — Lyon, France: IARC Press, 2003.
132. Taylor, H.C. Malignant and semimalignant tumors of the ovary / H.C. Taylor // Surg. Gynecol. Obstet. — 1929. — Vol. 48. — P. 204-230.
133. The ovarian tumor panel of the royal college of obstetricians and gynaecologists. Ovarian epithelial tumors of borderline malignancy: pathological features and current status // Brit. J. Obstet. Gynecol. — 1983. — Vol. 90, N 8. — P. 743-750.
134. Tinelli, F. Pregnancy outcome and recurrence after conservative laparoscopic surgery for borderline ovarian tumors / F. Tinelli, R. Tinelli, F. La Grotta et al. // Acta Obstet. Gynecol. Scand. — 2007. — Vol. 86, N 1. — P. 81-87.
135. Trillsch, F. Clinical management of borderline ovarian tumors / F. Trillsch, S. Mahner, J.D. Ruetzel et al. // Expert Rev. Anticancer Ther. — 2010. — Vol. 10, N 7. — P. 1115-1124.
136. Trimble, C.L. Long-term survival and patterns of care in women with ovarian tumors of low malignant potential / C.L. Trimble, C. Kosary, E.L. Trimble // Gynecol. Oncol. — 2002. — Vol. 86, N 1. — P. 34-37.
137. Trope, C. Diagnosis and treatment of borderline ovarian neoplasms «thestate of the art» / C. Trope, B. Davidson, T. Paulsen et al. // Eur. J. Gynaecol. Oncol. —
2009. — Vol. 30, N 5. — P. 471-482.
138. Tyler, C.W. The diagnosis of ovarian cancer by pathologists: How often do diagnoses by contributing pathologists agree with a panel of gynecologic pathologists? / C.W. Tyler, N.C. Lee, S.J. Robboy et al. //Am. J. Obstet. Gynecol. — 1991. — Vol. 164, N1 (Pt.1). — P. 65-70.
139. Ulbright, T.M. Papillary serous carcinoma of the retroperitoneum / T.M. Ulbright, D.J. Morley, L.M. Roth, R.L. Berkow //Am. J. Clin. Path. — 1983. — Vol. 79, N 5. — P. 633-637.
140. Uzan, C. Outcomes after conservative treatment of advancedstage serous borderline tumors of the ovary / C. Uzan, A. Kane, A. Rey et al. // Ann. Oncol. —
2010. — Vol. 21, N 1. — P. 55-60.
141. Valentin, L. Pattern recognition of pelvic masses by gray-scale ultrasound imaging: the contribution of Doppler ultrasound / L. Valentin // Ultrasound Obstet. Gynecol. — 1999. — Vol. 14, N 5. — P. 338-347.
142. van Leeuwen, F.E. Risk of borderline and invasive ovarian tumours after ovarian stimulation for in vitro fertilization in a large Dutch cohort / F.E. van Leeuwen, H. Klip, T.M. Mooij et al. // Hum. Reprod. — 2011. — Vol. 26, N 12. — P. 3456-3465.
143. Vasconcelos, I. Management of borderline ovarian tumors — state of the art / I. Vasconcelos // Uterus & Ovary. — 2015. — Vol. 2. — P. 1-6. doi:10.14800/uo.885.
144. Vasconcelos, I. Conservative surgery in ovarian borderline tumours: A meta-analysis with emphasis on recurrence risk / I. Vasconcelos, M. de Sousa Mendes // Eur. J. Cancer. — 2015. — Vol. 51, N 5. — P. 620-631.
145. Watson, R.H. Loss of heterozygosity of chromosomes 7p, 7q, 9p, and 11q is an early event in ovarian tumorogenesis / R.H. Watson, P.J. Neville, W.J. Roy Jr. et al. // Oncogene. — 1998. — Vol. 17, N 2. — P. 207-212.
146. Webb, P.M. Symptoms and diagnosis of borderline, early and advanced epithelial ovarian cancer / P.M. Webb, D.M. Purdie, S. Grover et al. // Gynecol. Oncol. — 2004. — Vol. 92, N 1. — P. 232-239.
147. Weinold, J. Therapie und Verelauf bei 105 Borderline Tumoren des Ovars / J. Weinold, B. Sarembe, P. Rickter // Zbl. Gynakol. — 1985. — Vol. 111, N 11.
— P. 721-727.
148. Welander, C.E. What do CA-125 and other antigens tell us about ovarian cancer biology? / C.E. Welander //Acta Obstet. Gynecol. Scand. — 1992. — Suppl. 155.
— P. 85-93.
149. Winter, W.E. Surgical staging in patients with ovarian tumors of low malignant potential / W.E. Winter 3rd, P.R. Kucera, W. Rodgers et al. // Obstet. Gynecol. — 2002. — Vol. 100, N 4. — P. 671-676.
150. Yazbek, J. Accuracy of ultrasound subjective ‘pattern recognition’ for the diagnosis of borderline ovarian tumors / J. Yazbek, K.S. Raju, J. Ben-Nagi et al. // Ultrasound Obstet. Gynecol. — 2007. — Vol. 29, N 5. — P. 489-495.
151. Yong, R.C. Adjuvant therapy in stage I and stage II epithelial ovarian cancer / R.C. Yong, L.A. Walton, S.S. Elenberg et al. // N. Engl. J. Med. — 1990. — Vol. 322, N 15. — P. 1021-1027.
152. Zaloudek, C. Recent advances in the pathology of ovarian cancer / C. Zaloudek, R.J. Kurman // Clin. Obstet. Gynecol. — 1983. — Vol. 10, N 2. — P. 155-185.
153. Zanetta, G. Behavior of borderline tumors with particular interest to persistence, recurrence, and progression to invasive carcinoma: a prospective study / G. Zanetta, S. Rota, S. Chiari et al. // J. Clin. Oncol. — 2001. — Vol. 19, N 10.
— P. 2658-2664.
154. Zinsser, K.R. Endosalpingosis in the omentum: a study of autopsy and surgical material / K.R. Zinsser, J.E. Wheeler // Am. J. Surg. Pathol. — 1982. — Vol. 6, N 2. — P. 109-117.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.
Пограничные эпителиальные опухоли (ПОЯ) представляют собой овариальные новообразования с наличием клеточной и ядерной атипии без деструктивной стромальной инвазии и имеют благоприятный прогноз. Среди всех неоплазий яичников ПОЯ составляют 15–20% [1–3]. Однако при анализе данных специализированных онкологических клиник выявлена большая частота — 21–35% в связи с профильным отбором больных [4–8]. У беременных частота злокачественных образований яичников (ЗОЯ) вместе с ПОЯ не превышает 9%. Из-за отсутствия патогномоничных симптомов, достоверных признаков эхографии и результатов определения маркерного гликопротеина СА- 125 клиническая диагностика ПОЯ затруднена, и зачастую возникают сложности с дифференцированием их от доброкачественных и злокачественных видов неоплазий яичников. Поэтому диагноз пограничной опухоли может быть достоверно установлен только по итогам послеоперационного морфологического исследования [9–10]. Более чем у 70% беременных опухоли выявляют при проведении ультразвукового исследования (УЗИ) на ранних сроках гестации и они соответствуют начальным стадиям по классификации FIGO. Хирургическое лечение ЗОЯ и ПОЯ у беременных выполняют, как правило, в первом и втором триместрах беременности [5, 11–12], что ведет к росту перинатальной заболеваемости и ранней детской смертности.
Целью исследования было усовершенствовать методы диагностики ПОЯ на фоне беременности и определить возможности выполнения органосохраняющего лечения.
ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
За период с 2000 по 2017 г. были проспективно обследованы 300 беременных с различными опухолевидными образованиями (ООЯ) и опухолями яичников (ОЯ). Критерии включения пациенток в исследование: беременные с ООЯ/ОЯ в I–III триместрах. Критерии исключения: отказ беременной от участия в исследовании; беременные с установленным до начала исследования онкологическим заболеванием; пациентки с угрозой прерывания беременности, внутриутробным инфицированием, пренатальными повреждениями плода, установленными до проведения исследования. Результаты исследования оценивали при перекрестном анализе. Распределение их в зависимости от морфологической структуры, стадии опухолевого процесса и степени дифференцировки представлено на рис. 1.
У 76 из 300 беременных с новообразованиями яичников были выявлены пограничные (ПОЯ) и злокачественные (ЗОЯ) опухоли. Среди 25 ПОЯ серозная форма зарегистрирована в 22 наблюдениях, муцинозная в трех. Следует отметить, что исследование проводили длительное время и набор пациентов носил случайный, не популяционный характер.
УЗИ проводили на аппарате Voluson 530 MT (Kretztechnik; Австрия) и Voluson Е8 (General Electric; США) с использованием датчиков: RIC5-9-D (4–9 МГц), С1-5-D (2–5 МГц), RAB4-8-D (2–8 МГц). Комплексное УЗИ выполняли в режиме 2D и 3D в комбинации с использованием допплерографических методик в режиме цветового и энергетического картирования (ЦДК и ЭДК), а также трехмерной ангиографии. При ЦДК исследовали ряд параметров: характер сосудистого рисунка (по периферии, в центральной части опухоли, в перегородках, в папиллярных разрастаниях), анализ кривой скорости кровотока (КСК) с определением показателя сосудистого сопротивления — индекса резистентности (resistance index, RI) и максимальной систолической скорости кровотока (МСС, см/с). Из 30 сонографических признаков ООЯ, доброкачественных образований (ДОЯ), ПОЯ и ЗОЯ информативными оказались 17. Для УЗ-диагностики использовали предложенную нами модель, разделяющую ДОЯ от ПОЯ и ЗОЯ [13]. В предыдущих наших исследованиях [14] было показано, что опухоли яичников у беременных имеют УЗ-признаки, с помощью которых их можно с довольно высокой точностью дифференцировать на ДОЯ и ЗОЯ. В ходе исследования было обнаружено, что УЗ-особенности различных ОЯ имеют статистически значимые различия. При изучении эхографических признаков злокачественных эпителиальных опухолей яичников (рака яичников, или РЯ) выделено четыре типа строения, и что самое важное — своеобразие гемодинамических показателей. Одновременно была создана экспертная шкала на основании анализа УЗ-показателей. Для оценки точности модели помимо собственно процента верных отнесений учитывали параметры чувствительности (Se) и специфичности (Sp).
Молекулярно-биологические исследования проводили по следующей схеме. Концентрацию СА-125 определяли с помощью иммуноферментного анализа с использованием тест-системы (Siemens; Германия). В сыворотке крови концентрацию sFas измеряли иммуноферментным методом с использованием моноклональных антител, а концентрацию VEGF — иммуноферментным методом при использовании наборов реактивов («R@D»; США). Определение концентрации IL6 производили иммуноферментным методом ELISA «сэндвичевого» типа с использованием наборов реактивов («R&D»; США).
Гистологические препараты, окрашенные гематоксилин- эозином, оценивали разные патологи. При постановке морфологического диагноза использовали классификацию опухолей женской репродуктивной системы ВОЗ 2003 г., поскольку именно она была принята на территории РФ во время проведения исследования. Для иммуногистохимического исследования были отобраны парафиновые блоки у 15 беременных с ПОЯ и у 10 — с ЗОЯ. Ангиогенез анализировали с помощью антител к фактору роста эндотелия сосудов (vascular endothelial growth factor, VEGF) — главному сигнальному белку ангиогенеза (VENTANA; США) и эндотелиальному маркеру CD31 — молекуле межклеточной адгезии тромбоцитов и эндотелия типа 1 (клон JC70; VENTANA, США). При оценке экспрессии CD31 сначала при малом увеличении микроскопа были отобраны участки с наибольшим числом микрососудов. В дальнейшем в двух отдельных полях зрения с повышенной микрососудистой площадью при 200-кратном увеличении микроскопа подсчитывали число всех позитивных микрососудов. Уровень экспрессии VEGF оценивали полуколичественным методом в пяти полях зрения при 400-кратном увеличении микроскопа, включающим сопоставление интенсивности окрашивания и числа позитивных клеток. При измерении интенсивности окрашивания неокрашенные клетки соответствовали 0 баллам, клетки со слабожелтым окрашиванием — 1 баллу, клетки с желто-коричневым окрашиванием — 2 баллам, клетки с коричневым окрашиванием — 3 баллам. Число позитивно окрашенных клеток варьировало: 0 баллов — менее 10% всех клеток, 1 балл — 10–49% окрашенных клеток, 2 балла — 50–74% окрашенных клеток, 3 балла — более 75% окрашенных клеток. Результаты обоих подсчетов складывали, значение более 2 баллов считали положительным.
Помимо этого, были изучены истории болезни и исходы беременности и родов у 300 пациенток с новообразованиями яичников после проведенного лечения.
Для статистической обработки данных применяли прикладной пакет программ SPSS 15.0 (IBM; США). Данные подвергали частотному анализу путем построения кросс-таблиц. Различия считали статистически значимыми при значении p < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведенные исследования показали, что клинические характеристики обследованных беременных существенно не различались по группам. Так, возраст у 76 беременных с ПОЯ и ЗОЯ варьировал в широком диапазоне, от 18 до 45 лет. Более чем в 60% наблюдений он составлял 30 лет. У беременных с ПОЯ/ЗОЯ были отмечены боли внизу живота и нарушение функций соседних органов — в 9% случаев, увеличение объема живота — в 10,9%, в анамнезе были выявлены нарушение менструального цикла в 10,9% и бесплодие — в 2,7%. Структура сопутствующих экстрагенитальной, гинекологической патологий и перенесенные гинекологические операции до настоящей беременности у пациенток с ООЯ/ОЯ в большей степени коррелировали с возрастом и не зависели от морфологической структуры опухолей.
Среди гистологических форм ПОЯ преобладали серозные — у 22 (88%) пациенток, муцинозные типы встречались у 3(12%) беременных. Билатеральное поражение яичников было установлено в 28% наблюдений. Большинство ПОЯ на фоне беременности диагностированы в I стадии опухолевого процесса — у 19 (76%) пациенток, II стадия выявлена у 5 (20%) больных и только в одном наблюдении верифицирована III стадия.
УЗ-признаки у беременных с пограничными опухолями яичников соответствовали нескольким вариантам строения: в 32,6% наблюдений констатирован смешанный тип строения опухоли с преобладанием солидного компонента, примерно у 55% больных отмечалось преобладание кистозного компонента, к солидным опухолям отнесены более 10%. При допплерографии была выявлена центральная и периферическая гиперваскуляризация с низкими значениями RI (меньше или равно 0,4) и высокими показателями МСС (более 15 см/с) при оценке КСК, с наличием мозаичного типа кровотока, свидетельствующего о присутствии артериовенозного шунтирования в сосудистой сети опухоли.
Использование предложенной нами модели для дифференциальной диагностики ОЯ у беременных позволило отличать ООЯ и ДОЯ от ПОЯ и ЗОЯ (чувствительность составила 100%, специфичность 92,3% при суммарной точности модели 92,8%). Из-за выраженной схожести изображения и гемодинамических показателей при проведении комплексной эхографии не удалось дифференцировать ПОЯ и ЗОЯ. Вместе с тем при этих неоплазиях во всех наблюдениях были выявлены центральное расположение сосудов с разветвленной сетью в перегородках, солидном компоненте, папиллярных разрастаниях и низкорезистентный кровоток.
При ПОЯ концентрация СА-125 в крови беременных варьировала от 24,4 до 361 ЕД/мл в I триместре и от 24,1 до 223 ЕД/мл — во II триместре беременности. Уровень sFas составлял 40–200 нг/мл в I триместре и 46–180 нг/мл во II триместре беременности. Концентрация VEGF колебалась от 89 до 286 пг/мл в I триместре и от 92 до 480 пг/мл — во II триместре беременности. IL6 достигали 3,6–12 пг/мл в I триместре и 8–40,9 пг/мл во II триместре беременности.
При ЗОЯ было отмечено достоверное повышение по сравнению с ПОЯ в сыворотке крови как СА-125, так и других маркеров канцерогенеза — sFas, VEGF, IL6 в любые сроки беременности. В крови трех пациенток с аденокарциномой яичников СА-125 составили 540–1224,6 ЕД/мл, sFas — 180–312,6 нг/мл, VEGF — 510–1028 пг/мл, IL6 — 9,8–40,9 пг/мл. Аналогичную концентрацию молекулярно- биологических факторов наблюдали в крови пациенток с дисгерминомой, смешанной герминогенной опухолью и незрелой тератомой. В этих наблюдениях уровень СА-125 превышал 361 ЕД/мл, sFas — 240 нг/мл, VEGF — 490 пг/мл, IL6 — 8,1 пг/мл.
При морфологическом исследовании ПОЯ (рис. 2) в 22 наблюдениях были зарегистрированы признаки, позволяющие дифференцировать их как от ДОЯ, так и от ЗОЯ. В трех наблюдениях были обнаружены несовпадения в интерпретации окончательного гистологического ответа у больных, которым был установлен диагноз серозной аденокарциномы на фоне серозной пограничной опухоли. При повторном пересмотре препаратов элементов злокачественной опухоли не было обнаружено.
Пограничная серозная цистаденома представляла собой кистозную опухоль с рыхлой стенкой и выраженными папиллярными разрастаниями, которые занимали всю внутреннюю поверхность и в 70% случаев определялись и на наружной поверхности. ПОЯ отличались эпителиальными разрастаниями с образованием клеточных пучков и отпочкованием групп клеток одновременно со строго упорядоченным ветвлением, при котором мелкие папиллы происходят от крупных, центрально расположенных сосочков. Клетки пограничных серозных опухолей имели особенности эпителиальной и мезотелиальной дифференцировки. Реснитчатые клетки были похожи на клетки маточной трубы и были выявлены в трети опухолей. Клетки с обильной эозинофильной цитоплазмой и округлыми ядрами имели сходство с мезотелием и располагались на верхушках папилл. Ядра клеток располагались базально, овальной или округлой формы, с легкой атипией, нежным хроматином и иногда выраженными ядрышками. Выявлены редкие митозы (обычно 4 в 10 полях зрения). Псаммомные тельца обнаружены в половине наблюдений.
Серозные карциномы достигали больших размеров (до 20 см в диаметре), представляли собой кисты с серозным или сукровичным содержимым, заполненные мягкими рыхлыми папиллярными разрастаниями. Наружная поверхность была гладкая, изредка с папиллярными структурами. Опухоли солидного строения обычно имели менее выраженные папиллы, розово-серого цвета, были мягкими или плотными в зависимости от характера подлежащей стромы. Одновременно наблюдались кровоизлияния и некрозы. При микроскопическом исследовании серозные карциномы имели папиллярное с очагами солидного строение, увеличенные округлые клетки с полиморфными, гиперхромными ядрами, глыбчатым ядерным хроматином и увеличенным ядерно-цитоплазматическим соотношением, псевдомногорядность эпителия, характеризовались потерей полярности, отсутствием ресничек на поверхности клеток, повышенной митотической активностью.
Пограничная муцинозная цистаденома яичника была, как правило, многокамерная, диаметром до 30 см, содержала соломенного цвета жидкость или слизь. Морфологическое изучение препаратов этих опухолей выявляло участки, выстланные многорядным муцинозным эпителием кишечного типа с образованием ворсинчато-железистых и папиллярных структур с легкой степенью атипии ядер клеток.
Муцинозная карцинома отличалась от пограничной муцинозной цистаденомы наличием очагов с комплексным расположением желез, выстланных клетками с умеренной и тяжелой атипией ядер, митозами, а также присутствием очагов некроза в опухоли.
Экспрессия CD31 (рис. 3–рис. 4) была выявлена в строме опухолей во всех случаях. Среднее число CD31 позитивных сосудов у женщин с ПОЯ составило 36 (от 12 до 48), у пациенток с ЗОЯ — 44 (от 19 до 56). Иммунореактивность в отношении маркера VEGF, оцененная полуколичественным методом, у женщин с ПОЯ соответствовала 5 баллам (от 4 до 6), у пациенток с ЗОЯ — 6 баллам (от 5 до 7). Достоверные различия при исследовании экспрессии обоих маркеров не были установлены.
Анализ историй болезни беременных с ПОЯ и ЗОЯ показал, что части из них при распространенном опухолевом процессе проведены полные циторедуктивные операции с прерыванием беременности. Другим пациенткам циторедуктивные операции проводили дважды: при обнаружении опухоли и после операции кесарева сечения.
У всех пациенток с признаками озлокачествления опухолей яичников проводили срединную лапаротомию с обходом пупка слева. В шести наблюдениях была выполнена сначала диагностическая лапароскопия, а затем в связи с подозрением на РЯ — лапаротомия и удаление первичного очага.
Объем хирургического вмешательства определяли интраоперационно в соответствии с данными клинической картины заболевания, репродуктивного анамнеза и возрастом пациентки, результатами УЗИ, уровнями онкомаркеров в сыворотке крови и результатами срочного гистологического исследования. В ходе операций проводили хирургическое стадирование опухолевого процесса, ревизию органов брюшной полости и малого таза, резекцию/удаление большого сальника, множественные биопсии брюшины, взятие смывов или асцитической жидкости из брюшной полости. При муцинозном типе опухоли проводили аппендэктомию. У больных, не заинтересованных в сохранении беременности и фертильности, выполняли радикальные операции — в семи из 76 наблюдений. На первом этапе во время беременности 20 пациенткам с ПОЯ было выполнено органосохраняющее оперативное вмешательство с сохранением матки и части здорового яичника. В двух случаях проводили двухстороннюю аднексэктомию. В одном из них пограничная опухоль стала находкой после гистологического исследования резецированной части визуально неизмененного контрлатерального яичника (IB стадия).
Следует отметить, что при гистологическом исследовании биопсийного материала или препаратов опухоли могут возникать ошибки и неточности. Так, в наших наблюдениях у трех больных с ОЯ на фоне беременности при морфологическом исследовании зарегистрированы участки ткани, характерные как для ПОЯ, так и для ЗОЯ. Был установлен диагноз высокодифференцированной аденокарциномы обоих яичников на фоне серозной цистаденомы пограничного типа. У одной из них в сроки 11–12 недель беременности клинически определены двухсторонние опухоли яичников с признаками озлокачествления, асцит. В онкологическом стационаре после проведения диагностической лапароскопии, правосторонней аднексэктомии с экспресс- гистологическим исследованием было сделано заключение: пограничная цистаденома. Выполнена конверсия лапароскопического доступа на лапаротомический. Путем срединной лапаротомии были выполнены биопсия левого яичника, резекция большого сальника, множественные биопсии брюшины. Морфологически установлен диагноз высокодифференцированной аденокарциномы, развившейся на фоне серозной пограничной опухоли с раковыми эмболами в просвете сосудов большого сальника (рак яичников T3cN0M0). Выполнены искусственное прерывание беременности и радикальная операция: экстирпация матки с левыми придатками, субтотальная резекция большого сальника. При цитологическом исследовании смывов из брюшной полости выявлены элементы аденогенного рака. Перед назначением химиотерапии был проведен междисциплинарный онкологический консилиум в связи с расхождением в трактовке результатов цитологического и гистологического исследований разными специалистами. Первичный диагноз не был подтвержден. Установленный диагноз: пограничная опухоль яичников с неинвазивными имплантами в большом сальнике. От проведения химиотерапии было решено отказаться. Больная наблюдается четыре года без признаков прогрессирования заболевания.
Результаты лечения пациенток с пограничными опухолями были следующие: у трех беременных проведено прерывание беременности с проведением хирургического лечения в объеме пангистерэктомии из-за наличия аденокарциномы на фоне серозной ПОЯ, у двух беременных произошли выкидыши, 10 пациенток родили самостоятельно в срок, шесть беременных родоразрешены раньше срока путем операции кесарева сечения при появлении акушерских показаний, в четырех случаях повторные операции проведены с целью рестадирования.
У беременных с ПОЯ впоследствии возникли рецидивы опухоли в двух случаях. У одной при серозном гистотипе опухоли IA стадии в ткани резецированного яичника после органосохраняющей операции рецидив выявлен на пятом году наблюдения. При морфологическом исследовании была обнаружена высокодифференцированная аденокарцинома, после чего проведена радикальная операция, дополненная химиотерапией. Во втором наблюдении через 2 года после первой операции возник рецидив, идентичный по гистологической структуре первичной опухоли (атипически пролиферирующая опухоль серозного типа). После удаления рецидивного новообразования было проведено комбинированное лечение. Обе пациентки живы более 3 лет. Выбыли из-под наблюдения 5 пациенток. Отдаленные результаты лечения нами прослежены у 17 из 25 больных в течение 3–10 лет. Все наблюдаемые живы на момент проведения исследования. Общая пятилетняя выживаемость составила 100%.
У пациенток с ПОЯ через 2–5 лет после проведенного оперативного вмешательства наступило 9 беременностей, 4 из которых закончились родами с благоприятным исходом. В 3 наблюдениях беременности закончились самопроизвольным абортом.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Данные литературы свидетельствуют об отсутствии специфических клинических проявлений ПОЯ при беременности. Комплексная сонография с использованием допплерометрических методик, включенных в модели для дифференциальной диагностики, имеет высокую специфичность.
В настоящее время не выделено молекулярно- биологических факторов, достоверно характеризующих ПОЯ [2, 15]. Применение большинства онкомаркеров ограничено из-за высокой вариабельности их показателей, в том числе и в зависимости от срока гестации. В проведенном исследовании значительное повышение уровней маркеров канцерогенеза выше пороговых (VEGF — выше 500 пг/мл, IL6 — 8,1 пг/мл) выявлено при наличии злокачественных неоплазий яичников у беременных. При этом специфичность теста составила 91,5%, чувствительность — 75%. Концентрация СА- 125 при ЗОЯ у беременных превышала 300 ЕД/мл. Эти результаты согласуются с данными других авторов [16].
При оценке уровня экспрессии VEGF в парафиновых блоках полуколичественным методом повышенная иммунореактивность в отношении данного маркера, соответствующая 5–7 баллам, была зарегистрирована в карциномах яичников. Ассоциация экспрессии VEGF и овариального рака подтверждена многими работами. Доказано повышение иммунореактивности VEGF в карциноме яичника по сравнению с ПОЯ, при этом высокий уровень экспрессии VEGF свидетельствует о прогрессировании заболевания [17]. Повышенная иммунореактивность CD31 в препаратах ЗОЯ по сравнению с образцами ПОЯ указывает на усиленный кровоток в опухолевой ткани, обусловленный неоваскуляризацией, регистрируемой в злокачественных опухолях [18].
Основным методом лечения ПОЯ с органосохраняющим или радикальным подходом остается хирургический метод. В мировой литературе активно обсуждают вопрос о возможности ультраконсервативных вмешательств как органосохраняющего варианта с сохранением неизмененной ткани яичника, пораженного ПОЯ, путем выполнения резекции/цистэктомии [2, 19]. Оптимальным объемом операции считается аднексэктомия на стороне поражения с морфологическим исследованием смывов с брюшины и ее множественных биоптатов; окончательное хирургическое стадирование следует проводить во время кесарева сечения или после родов, если родоразрешение проводили через естественные родовые пути [20, 21]. В нашем исследовании ультраконсервативные вмешательства не были выполнены, в 80% наблюдений у пациенток с ПОЯ применяли органосохраняющее хирургическое лечение. С целью рестадирования повторные операции были выполнены у 16% наблюдаемых.
Примерно у 1/3 больных необходимо проведение окончательного послеоперационного морфологического исследования на парафиновых блоках при ПОЯ и высокодифференцированной аденокарциноме [2, 22–24]. По некоторым данным, высокая частота гипердиагностики при наличии фокусов, подозрительных на рак яичников при ПОЯ, даже при проведении окончательного гистологического исследования в специализированных учреждениях, приводит к необоснованному завышению объемов хирургических вмешательств [3]. По нашим результатам, несовпадения в трактовке морфологического ответа при дифференциальной диагностике ПОЯ и РЯ обнаружены в 12% случаев. Разнообразное строение ПОЯ, необходимость тщательного исследования множественных срезов обусловливают повышенные требования к квалификации и опыту морфолога, аналогичного мнения придерживаются и другие исследователи [3, 9, 22].
Общая частота рецидивов при ПОЯ варьирует от 3 до 10%, при распространенных стадиях рецидивы развиваются у 25% больных. В проведенном нами исследовании рецидивы были выявлены в 8% наблюдений. По результатам публикаций, пятилетняя выживаемость при I–II стадиях составляет около 98–99%, при III–IV стадиях — 82–90% [25, 26]. Возможно, столь высокие показатели пятилетней выживаемости в выполненном исследовании связаны с выявлением ПОЯ в начальных стадиях процесса и малым количеством исследуемых групп.
В работах по изучению фертильности после органосохраняющего лечения сообщается, что спонтанные беременности возникают в 40–72% наблюдений. Влияние беременности на течение заболевания не установлено [1, 2, 27, 28]. Следует отметить, что репродуктивными результатами, полученными в нашей работе, были зафиксированные беременности более чем у 35% пациенток после органосохраняющих оперативных вмешательств при выявлении ПОЯ на фоне беременности.
Полученные нами результаты позволили выделить в диагностическом алгоритме обследования беременных с подозрением на малигнизированные ОЯ совокупность таких признаков, как смешанное эхографическое строение с гиперваскулярным типом кровотока и низкими показателями индексов сосудистого сопротивления, значения VEGF, превышающие 500 пг/мл, и IL6 более 8,1 пг/мл, концентрация СА-125 выше 300 ЕД/мл, как наиболее важные. Однако схожесть УЗ-признаков ПОЯ и ЗОЯ не позволила однозначно дифференцировать данные типы неоплазий. Диагноз ПОЯ является прерогативой окончательного послеоперационного морфологического исследования. Результаты срочного гистологического анализа тканей яичников на замороженных срезах не во всех наблюдениях позволяют получить истинное представление о характере ОЯ у беременных. Высокие показатели общей пятилетней выживаемости после выполнения хирургического лечения ПОЯ в органосохраняющем объеме на фоне беременности в проведенном исследовании демонстрируют возможность реализации таких щадящих подходов при начальных стадиях.
ВЫВОД
Несмотря на значительный научный и практический интерес к ПОЯ многие проблемы, касающиеся совершенствования диагностики и методов лечения больных во время беременности, далеки от своего решения. Преобладание начальных форм опухолевого процесса, относительно благоприятное течение и прогноз при ПОЯ позволяют достаточно широко использовать щадящий характер хирургического лечения с сохранением менструальной функции и фертильности.
Factors associated with misdiagnosis of frozen section of mucinous borderline ovarian tumor
Wen Zhang et al.
J Int Med Res.
2019 Jan.
Free PMC article
Abstract
Objective:
This study was performed to investigate the diagnostic accuracy of frozen section (FS) of mucinous borderline ovarian tumors (mBOTs) and the diagnostic value of various risk factors for misdiagnosis.
Methods:
Patients with either an FS or permanent pathologic diagnosis of mBOT were included. Optimum cut-off values for serum tumor markers and maximal tumor diameter were determined, and risk factors for underdiagnosis of mucinous malignant ovarian tumors (mMOTs) were evaluated. The sensitivity, specificity, Youden’s index, and diagnostic odds ratio of the risk factors were assessed to determine their diagnostic value for mMOTs.
Results:
Of 121 included patients, 97 were diagnosed with mBOTs by FS. Relatively abnormal cancer antigen 125 (CA125), carbohydrate antigen 19-9 (CA19-9), and carcinoembryonic antigen (CEA) levels; bilateral tumors; and specific pathological features showed significant associations with underdiagnosis of mMOTs in the univariate analysis. The presence of specific pathological features was the only significant risk factor in the multivariate analysis. The CA125, CA19-9, and CEA levels and specific pathological features demonstrated certain diagnostic value in detecting malignant cases among FS-diagnosed mBOTs.
Conclusions:
In patients with FS-diagnosed mBOT, significant predictors of malignancy were relatively higher CA125, CA19-9, and CEA levels; bilateral tumors; and tumors with specific pathological features.
Keywords:
Mucinous borderline ovarian tumor; frozen section; misdiagnosis; mucinous malignant ovarian tumor; permanent pathology; risk factor.
Figures
Frozen section photomicrograph of a malignant tumor interpreted as borderline by frozen section.
Figure 1.
Similar articles
-
Effect of tumor size on the accuracy of frozen section in the evaluation of mucinous borderline ovarian tumors.
Karataşlı V, Can B, Çakır İ, Erkılınç S, Karabulut A, Ayaz D, Kuru O, Gökçü M, Sancı M.
Karataşlı V, et al.
J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2020 Jun;49(6):101765. doi: 10.1016/j.jogoh.2020.101765. Epub 2020 Apr 20.
J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2020.PMID: 32325272
-
The utility of tumor markers and neutrophil lymphocyte ratio in patients with an intraoperative diagnosis of mucinous borderline ovarian tumor.
Seckin KD, Karslı MF, Yucel B, Bestel M, Yıldırım D, Canaz E, Akbayır O.
Seckin KD, et al.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016 Jan;196:60-3. doi: 10.1016/j.ejogrb.2015.10.025. Epub 2015 Nov 24.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016.PMID: 26683535
-
Appendiceal mucinous neoplasm mimics ovarian tumors: Challenges for preoperative and intraoperative diagnosis and clinical implication.
Zhang W, Tan C, Xu M, Wu X.
Zhang W, et al.
Eur J Surg Oncol. 2019 Nov;45(11):2120-2125. doi: 10.1016/j.ejso.2019.08.004. Epub 2019 Aug 20.
Eur J Surg Oncol. 2019.PMID: 31462390
-
Diagnostic Discordance in Intraoperative Frozen Section Diagnosis of Ovarian Tumors: A Literature Review and Analysis of 871 Cases Treated at a Japanese Cancer Center.
Yoshida H, Tanaka H, Tsukada T, Abeto N, Kobayashi-Kato M, Tanase Y, Uno M, Ishikawa M, Kato T.
Yoshida H, et al.
Int J Surg Pathol. 2021 Feb;29(1):30-38. doi: 10.1177/1066896920960518. Epub 2020 Sep 21.
Int J Surg Pathol. 2021.PMID: 32955372
Review.
-
[Ovarian tumours—accuracy of frozen section diagnosis].
Ivanov S, Ivanov S, Khadzhiolov N.
Ivanov S, et al.
Akush Ginekol (Sofiia). 2005;44(1):11-3.
Akush Ginekol (Sofiia). 2005.PMID: 15853005
Review.
Bulgarian.
Cited by
-
Retrospective study of characteristics and hyperthermia intraperitoneal perfusion in mucinous borderline ovarian tumor and mucinous ovarian carcinoma.
He X, Ying R, Jia L, Li Y, Li R.
He X, et al.
Gland Surg. 2023 Apr 28;12(4):453-464. doi: 10.21037/gs-23-45. Epub 2023 Apr 13.
Gland Surg. 2023.PMID: 37200926
Free PMC article. -
Clinicopathological Characteristics and Prognosis of 91 Patients with Seromucinous and Mucinous Borderline Ovarian Tumors: a Comparative Study.
Wu B, Li J, Tao X, Wang J, Zhu G, Lu X, Chen R.
Wu B, et al.
Reprod Sci. 2023 Jun;30(6):1927-1937. doi: 10.1007/s43032-022-01114-7. Epub 2022 Dec 13.
Reprod Sci. 2023.PMID: 36512190
-
Factors Influencing the Discordancy Between Intraoperative Frozen Sections and Final Paraffin Pathologies in Ovarian Tumors.
Shen H, Hsu HC, Tai YJ, Kuo KT, Wu CY, Lai YL, Chiang YC, Chen YL, Cheng WF.
Shen H, et al.
Front Oncol. 2021 Jul 1;11:694441. doi: 10.3389/fonc.2021.694441. eCollection 2021.
Front Oncol. 2021.PMID: 34277439
Free PMC article. -
Serum CA19-9, CA-125 and CEA as tumor markers for mucinous ovarian tumors.
Lertkhachonsuk AA, Buranawongtrakoon S, Lekskul N, Rermluk N, Wee-Stekly WW, Charakorn C.
Lertkhachonsuk AA, et al.
J Obstet Gynaecol Res. 2020 Nov;46(11):2287-2291. doi: 10.1111/jog.14427. Epub 2020 Aug 23.
J Obstet Gynaecol Res. 2020.PMID: 32830422
Free PMC article.
References
-
-
Cadron I, Leunen K, Van Gorp T, et al. Management of borderline ovarian neoplasms. J Clin Oncol 2007; 25: 2928–2937.
—
PubMed
-
-
-
Guvenal T, Dursun P, Hasdemir PS, et al. Effect of surgical staging on 539 patients with borderline ovarian tumors: a Turkish Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol 2013; 131: 546–550.
—
PubMed
-
-
-
Skirnisdottir I, Garmo H, Wilander E, et al. Borderline ovarian tumors in Sweden 1960–2005: trends in incidence and age at diagnosis compared to ovarian cancer. Int J Cancer 2008; 123: 1897–1901.
—
PubMed
-
-
-
Fischerova D, Zikan M, Dundr P, et al. Diagnosis, treatment, and follow-up of borderline ovarian tumors. Oncologist 2012; 17: 1515–1533.
—
PMC
—
PubMed
-
-
-
Van Calster B, Van Hoorde K, Valentin L, et al. Evaluating the risk of ovarian cancer before surgery using the ADNEX model to differentiate between benign, borderline, early and advanced stage invasive, and secondary metastatic tumours: prospective multicentre diagnostic study. BMJ 2014; 349: g5920.
—
PMC
—
PubMed
-
MeSH terms
Substances
LinkOut — more resources
-
Full Text Sources
- Atypon
- Europe PubMed Central
- PubMed Central
-
Other Literature Sources
- scite Smart Citations
-
Medical
- MedlinePlus Health Information
-
Research Materials
- NCI CPTC Antibody Characterization Program
-
Miscellaneous
- NCI CPTAC Assay Portal
Пограничные опухоли яичников (Атипические пролиферирующие опухоли яичников)
Пограничные опухоли яичников – это неоплазии женских гонад с низким злокачественным потенциалом, занимающие промежуточное положение между злокачественными и доброкачественными новообразованиями. Не имеют патогномоничной симптоматики, чаще всего больные жалуются на тазовые боли, снижение аппетита, тошноту и вздутие живота. Диагностика включает гинекологическое исследование, УЗИ и определение уровня титров опухолевых маркёров, окончательный диагноз устанавливается после оперативного вмешательства. Лечение хирургическое. В зависимости от возраста пациентки и стадии процесса выполняется удаление новообразования или поражённого яичника, двусторонняя аднексэктомия, гистеровариоэктомия.
Общие сведения
Пограничные опухоли яичников (атипические пролиферирующие опухоли) – эпителиальные новообразования, характеризующиеся присущими раку выраженной пролиферацией, клеточной и ядерной атипией, но не имеющие признаков деструктивной инвазии стромы и солидного роста. Этим опухолевым образованиям свойственно рецидивирование, экстраовариальное распространение, чаще всего поражающее брюшину, редко (в 7-29% случаев) – лимфатические узлы, крайне редко – отдалённые органы. «Метастазы» пограничных опухолей называют имплантами. Импланты могут быть инвазивными (с признаками малигнизации) и неинвазивными. Среди пограничных неоплазий наиболее распространены серозные (50-55%) и муцинозные (40-45%) новообразования. Пограничные опухоли составляют 10-15% в структуре всех овариальных неоплазий и чаще всего встречаются у женщин 30-50 лет.
Пограничные опухоли яичников
Причины
Этиология пограничных опухолей яичников неизвестна. Предполагается, что основными причинами развития заболевания являются увеличение количества овуляторных циклов за жизненный период, нарушение секреции гонадотропных гормонов гипофизом и половых – яичниками, расстройства иммунной регуляции. В отличие от причин, факторы риска патологии достаточно изучены, включают:
- Особенности репродуктивного анамнеза. Вероятность возникновения овариальных пограничных неоплазий значительно повышает бесплодие – это состояние имеется у 30-35% женщин на момент установления диагноза неоплазии. К другим факторам риска можно отнести нереализованную репродуктивную функцию, укорочение сроков лактации (менее полугода), раннее менархе (до 11 лет), позднее (после 55 лет) наступление постменопаузы, ранний (до 19 лет) или поздний (после 35 лет) возраст первой беременности, аборты.
- Патологии половых органов. Риск атипической пролиферирующей эндометриоидной опухоли значительно повышает овариальный эндометриоз. Гинекологические операции по поводу миомы матки, внематочной беременности и гнойных воспалений придатков могут спровоцировать развитие новообразования ввиду нарушения трофики яичников.
- Эндокринные расстройства. К возникновению овариальных опухолей приводят патологии эндокринных желёз, нарушения метаболизма и нервной регуляции, приём лекарственных препаратов. Факторы риска: гиперандрогения любого генеза, аденома гипофиза, опухоли надпочечников, гипо- и гипертиреоз, тяжёлые повреждения паренхимы печени, заместительная эстрогенотерапия при климаксе, приём контрацептивов с высоким содержанием эстрогенов.
- Инфекции. Считается, что вероятность возникновения опухоли коррелирует с количеством перенесённых аднекситов, хроническим воспалением, особенно вызванных специфическими (передающимися половым путём) инфекционными агентами. Важная роль отводится внутриклеточным микроорганизмам – патогенным типам микоплазмы и уреаплазмы.
К предрасполагающим условиям относятся заболевания и состояния, ослабляющие иммунную реакцию (сахарный диабет, тяжёлые инфекции, отравления), ожирение (в том числе имевшее место в детстве и юношестве), повышенное потребление жира (особенно в молодом возрасте). Возникновение опухолей потенцирует длительный психоэмоциональный стресс.
Патогенез
Патогенетические механизмы заболевания изучены слабо. Пограничные новообразования, как и другие опухоли, начинают развиваться вследствие нарушения регулирования клеточного цикла. Воздействие стимулирующих факторов (гонадотропинов, эстрогенов, провоспалительных цитокинов) запускает процесс пролиферации эпителия. Аномально длительный период стимуляции и нарушения процесса апоптоза обуславливают развитие гиперплазии. Повышается вероятность атипии быстро размножающихся клеток, исходом является возникновение опухоли. Почему в одних случаях формируются доброкачественные и пограничные опухоли, длительно не склонные к малигнизации, а в других – рак, до сих пор неизвестно.
Под вопросом остаётся и природа имплантов: одни клиницисты считают их метастазами пограничной неоплазии, другие – независимыми, развившимися из мультифокусных зачатков очагами опухоли. Большинство исследований свидетельствует об их молекулярно-генетическом сходстве с опухолью яичника, однако в ряде случаев выявляются существенные различия. Интересен тот факт, что при максимальной редукции овариальной опухоли перитонеальные импланты нередко подвергаются полному регрессированию.
Классификация
С учетом гистологического типа выделяют следующие виды пограничных неоплазий: серозную (атипическую пролиферирующую серозную опухоль, неинвазивную высокодифференцированную серозную карциному), муцинозную, эндометриоидную, светлоклеточную, опухоль Бреннера, смешанную. Серозные опухоли чаще наблюдаются у женщин репродуктивного возраста, с частотой 35-45% поражают оба яичника, в 30% распространяются на брюшину, в четверти случаев обнаруживаются инвазивные импланты. При муцинозном типе поражения брюшины встречаемость имплантов составляет 10%. Для прочих гистотипов характерно локализованное одностороннее поражение.
Классификация атипических гиперплазий по степени распространённости и стадиям опухолевого процесса аналогична стадированию инвазивного рака, актуальная (пересмотр 2014 года) версия по FIGO выглядит следующим образом:
Стадия I (T1N0M0). Опухолевый процесс ограничен яичниками.
- Стадия IA (T1aN0M0). Первичный очаг находится в пределах одного яичника. Отсутствуют повреждение его капсулы, поверхностные разрастания, злокачественные клетки в смывах с брюшины.
- Стадия IB (T1bN0M0). В процесс вовлечены оба яичника (критерии поражения аналогичны стадии IA).
- Стадия IC (T1cN0M0). Характеризуется поражением одного или обоих яичников с повреждением их капсулы, наличием разрастаний на поверхности яичника или маточной трубы, опухолевых клеток в смывах из брюшной полости.
Стадия II (T2N0M0). Опухоль распространяется на органы малого таза.
- Стадия IIA (T2aN0M0). Метастазирование в матку, фаллопиеву трубу (трубы).
- Стадия IIB (T2bN0M0). Поражены другие тазовые структуры.
Стадия III (T3N0M0 или T1-3N1M0). Опухоль поражает брюшину за пределами малого таза или (и) регионарные лимфоузлы (необходимо морфологическое подтверждение).
- Стадия IIIA (T1-3N0-1M0). Характеризуется наличием микроскопических имплантов в забрюшинных лимфоузлах и по брюшине.
- Стадия IIIB (T3bN0M0 или T3bN1M0). Макрометастазы в ткани брюшины ≤2 см в наибольшем размере с наличием или отсутствием метастазов в лимфоузлах.
- Стадия IIIC (T3cN0M0 или T3cN1M0). Перитонеальные импланты >2 см с поражением (или без) лимфоузлов, а также капсулы печени, селезёнки без вовлечения паренхимы.
Стадия IV (T1-3N0-1M1). Имеются метастазы в отдалённых органах.
- Стадия IVA (T1-3N0-1M1a). Плевральный выпот с опухолевыми клетками.
- Стадия IVB (T1-3N0-1M1b). Импланты, поражающие отдалённые органы и периферические лимфоузлы.
Симптомы
Симптомы заболевания многообразны и вариабельны. Чаще всего регистрируется болевой синдром – тупые тянущие боли в нижней части живота и области пупка, иррадиирующие в бёдра, голени и поясницу. Общие симптомы включают слабость, недомогание, похудание, быструю утомляемость, потерю работоспособности, нарушение сна и повышение температуры. Со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдается тошнота, неприятные ощущения во рту, чувство переполнения желудка при потреблении даже небольших объёмов пищи, отрыжка, рвота, запоры. Со стороны мочевыводящей системы при росте опухоли регистрируются частые позывы, затруднение мочеиспускания. До 37% пограничных новообразований яичников протекает без каких-либо субъективных ощущений.
Осложнения
Основное грозное и наиболее частое осложнение пограничных неоплазий (в основном, серозных) связано с десмоплазией – способностью эпителиальных клеток имплантов воспроизводить соединительную ткань. Результатом этого процесса становятся массивные очаги фиброза в брюшной полости, сдавливающие кишечник, что приводит к необратимым нарушениям его функции и кишечной непроходимости, нередко становящейся причиной гибели больной.
Другим опасным осложнением является малигнизация опухоли или имплантов. Возможны рецидивы со злокачественной трансформацией, характеризующиеся всеми свойствами аденокарциномы – агрессивным местным ростом, высокой вероятностью метастазирования в лимфатические узлы и отдалённые органы. Злокачественное превращение происходит достаточно редко, является причиной летального исхода, связанного с опухолью и её лечением, лишь в 0,7% случаев.
Диагностика
Диагностические исследования назначаются гинекологом или онкогинекологом. Гистологическая верификация диагноза проводится интраоперационно, в ходе лечебного хирургического вмешательства. Важная роль в диагностике принадлежит патоморфологу, поскольку установление гистологического различия между инвазивным раком и атипической гиперплазией нередко представляет затруднения, требует высокой квалификации и профессионального опыта. Дооперационные диагностические мероприятия включают:
- Ультрасонографию. Выполняется абдоминальное и трансвагинальное исследование. УЗИ органов малого таза и брюшной полости позволяет выявить скрытые (непальпируемые) опухоли яичника, диссеминаты брюшины, диафрагмы, печени и селезёнки, а также предположить пограничный риск злокачественности образования.
- Иммунохимический анализ. Повышение уровня онкомаркёров (CA 125, CA 19-9, НЕ-4, РЭА) косвенно свидетельствует о росте опухоли. Значительное увеличение титра CA 125, НЕ-4 характерно для серозных новообразований, повышение CA19-9 – для муцинозных.
Дополнительно может назначаться рентгенография органов грудной полости, КТ и МРТ таза, брюшной полости, колоноскопия, пункционная биопсия дугласова пространства (для исключения рака). Дифференциальная диагностика проводится с первичным и метастатическим овариальным раком, доброкачественными опухолями, ретенционными кистами яичников, опухолями матки (чаще с миомой, саркомой) и кишечника, гнойными воспалениями придатков.
Лечение пограничных опухолей яичников
Единственный метод лечения – хирургический. Поскольку неоплазии во многом схожи со злокачественными новообразованиями, операция должна выполняться онкогинекологом – это позволяет улучшить прогноз, снизить вероятность рецидива. Вмешательство осуществляется через лапаротомический или лапароскопический доступ. Химиотерапия не назначается ввиду неэффективности (возможно, по причине низкой пролиферативной активности таких новообразований), по данным некоторых клинических исследований, ухудшает исход заболевания.
Объём хирургической операции зависит от стадии неоплазии и возраста больной, молодым женщинам по возможности проводится лечение, позволяющее сохранить фертильность. Пациенткам репродуктивного возраста при любой стадии может выполняться резекция яичника (яичников) при условии наличия в нём (них) здоровой ткани. При одностороннем тотальном поражении органа производится односторонняя аднексэктомия, при двустороннем – удаление обоих придатков матки или гистеровариоэктомия. Женщинам, достигшим постменопаузы, при опухолях I-IIIA стадиях с поражением одного яичника проводится односторонняя тубовариоэктомия, при двустороннем поражении – двусторонняя (иногда с удалением матки), при большей распространённости процесса – экстирпация матки с придатками.
В случае поражения брюшины удаляются крупные визуализируемые узлы. Первичная операция обязательно включает хирургическое стадирование для уточнения распространённости процесса и гистологической характеристики имплантов. С этой целью всем больным осуществляется резекция контрлатерального яичника и большого сальника, биопсия брюшины. По результатам гистологического исследования образцов назначается динамическое исследование или повторная операция. При выявлении участков со снижением гистологической дифференцировки – очагов инвазивного роста – применяются протоколы лечения инвазивного рака, включающие химио- и лучевую терапию.
Прогноз и профилактика
Прогноз пограничных опухолей яичника благоприятный. У женщин с первой стадией заболевания пятилетняя выживаемость составляет 99%, десятилетняя – 97%, со второй – 98% и 90% соответственно, с третьей – 96% и 88%, с четвёртой – 77% и 69%. Рецидивы чаще всего возникают через два года после лечения, наблюдаются в 35-50% случаев, после гистеровариоэктомии встречаются вдвое или втрое реже, чем после органосохраняющих операций. Рецидивы без злокачественной трансформации не ухудшают прогноз. Наличие инвазивных имплантов снижает показатель десятилетней выживаемости на 25-30%.
В мероприятия первичной профилактики входит рациональная контрацепция, реализация репродуктивной функции, своевременное лечение гормональных расстройств и воспалительных заболеваний половых органов. Вторичная профилактика заключается в пожизненном наблюдении онкогинеколога с сонографическим и иммунохимическим контролем: в течение 5 лет после операции каждые 3-6 месяцев назначается УЗИ органов брюшной полости и малого таза, анализ опухолево-ассоциированных маркёров, далее эти исследования выполняются один раз ежегодно.
|
Литература 1. Современные подходы к лечению больных с пограничными опухолями яичников/ Новикова Е.Г., Шевчук А.С. // Онкогинекология – 2014 – №4. 2. Новая классификация опухолей яичника/ Франк Г.А., Москвина Л.В., Андреева Ю.Ю. // Архив патологии – 2015 – №4. 3. Современные представления об этиологии и патогенезе опухолевидных образований и доброкачественных опухолей яичников / Серебренникова К.Г., Кузнецова Е.П.// Саратовский научно-медицинский журнал – 2013 – Т.6 – №3. |
Код МКБ-10 D39 |